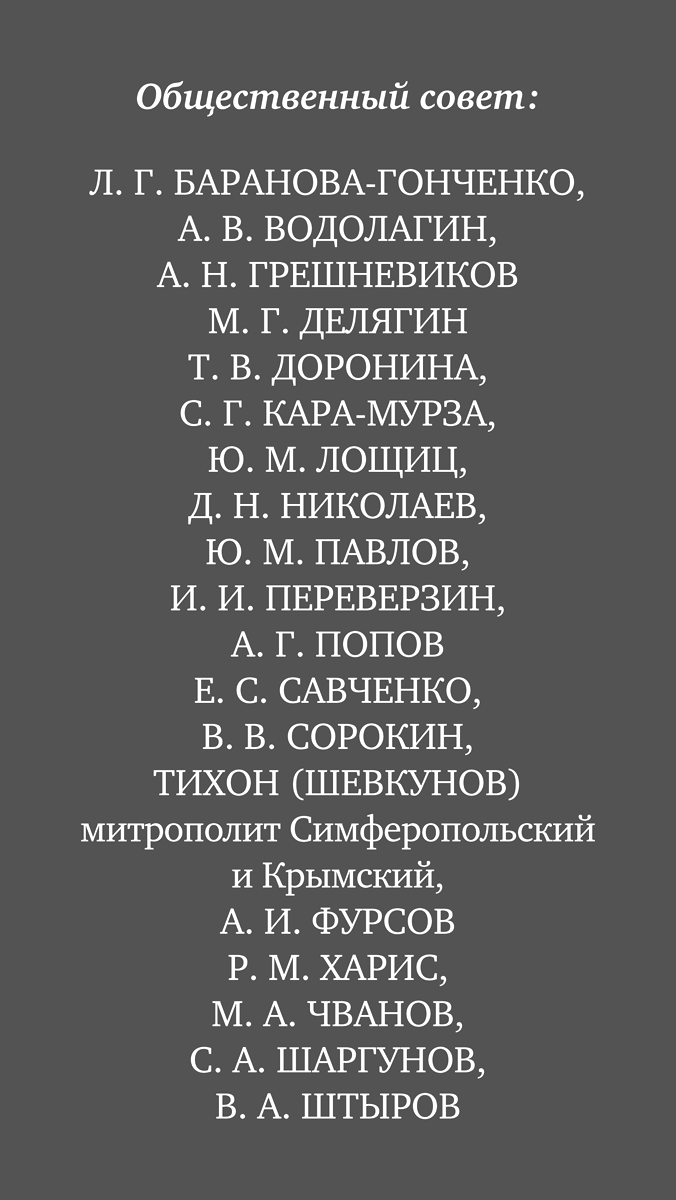ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО
..."Цель искусства, — писал Вадим Кожинов, — в том числе и искусства слова — вовсе не в том... чтобы фиксировать те или иные характерные явления и приметы времени, но в глубоком и масштабном освоении человеческого содержания эпохи. Сталкиваясь с новой, небывалой ситуацией в человеческом бытии, искусство стремится... не фотографировать эту ситуацию, а заново осмыслить в её свете сущность самого бытия людей — в частности, как бы вернуться к основам, к истокам..."
И здесь самое время для новой постановки старой проблемы — писатель и общество.
На рубеже 80–90 — годов прошлого века в сознание общества настойчиво, назойливо, декларативно вдалбливалось, что литература в России должна перестать занимать то место, которое она всегда занимала, сосредотачивая в себе и философию, и социологию, и осмысление текущей жизни, и прогнозы на будущее. Настоящему издевательству подверглось устойчивое представление о России, как о самой читающей стране.
"Телевидение почти свернуло показ фильмов отечественного кинематографа, — писал Юрий Минералов, — на смену которым пришли низкопробные западные "сериалы" мелодраматического и детективного характера, отличающиеся к тому же скверной игрой актеров,. Тогда же, в начале 90-х, было практически прекращено транслирование по радио и телевидению народных и вообще отечественных песен (песни Великой Отечественной на некоторое время зазвучали лишь в середине десятилетия — в преддверии праздновавшегося во всем мире юбилея победы над фашизмом). Параллельно было почти прекращено транслирование русской (как, впрочем, и зарубежной) классической музыки — услышать симфонию Чайковского, Калинникова или Рахманинова (а также музыку Баха, Бетховена или Брамса) и сегодня почти немыслимо где-либо, кроме вещающей на УКВ специальной радиостанции "Орфей" (в 90-е годы ее не раз пытались закрыть из-за коммерческой "невыгодности").
...Складывалось впечатление, вряд ли безосновательное, что в России не просто прекращена государственная работа по развитию отечественной культуры, но и широко и планомерно осуществляется нечто антикультурное. Особая тема — то, что не только было прекращено патриотическое воспитание молодежи через СМИ (которое, естественно, ведется во всех странах мира), но само понятие патриотизма всячески дискредитировалось и осмеивалось в этих самых средствах. Взамен со всех каналов радио и телевидения посыпались призывы к "наслаждению" , замелькала реклама жвачки, пива, прохладительных напитков, и пр. Патриотизм тщились заменить эгоизмом, личным бесстыдством и откровенным скотством".
А ведь самое время вспомнить, что в XIX веке в реальной жизни проявляли себя человеческие типы, воплощённые классическим пером Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Лескова, что их герои становились спутниками жизни каждого просвещённого человека, что деятельный герой литературных произведений.
Именно в XIX веке литература для русского читателя стала всем — и философией, и социологией, и указанием на будущее, явленными не в отвлечённых понятиях, а в живых образах. И писатель был вечным собеседником, учителем, наставником, каждый раз открывающим и в жизни, и в литературе нечто новое, благотворное, жизнедеятельное.
И здесь чрезвычайно важно, на мой взгляд, вернуться в прошлое, "к основам, к истокам", обратиться к размышлениям наших классиков, касающихся усвоения русской мыслью мысли европейской.
Вот как об этом говорил Пушкин ("Поймите же... что Россия никогда не имела с остальною Европою, что история её требует другой мысли, другой формулы" и Чаадаев ("Россия не имеет привязанностей, страстей и интересов Европы... Возьмите любую эпоху в истории западных народов... и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации... Поэтому нам незачем бежать за другими, нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое".
Пушкин был неоценимым собеседником и для власти, и для читающего народа — после роковой дуэли к его дому стекались многочисленные толпы и германский дипломат князь Гогенлоэ написал в дневнике, что о поэте скорбит "чисто русская партия, к которой принадлежал Пушкин".
Раскол русской общественной мысли на направления "славянофильское" и "западническое" роковой чертой прошёл по читающему обществу — и оно внимало, как заворожённое и "Философическим письмам" Чаадаева, и "Письму" Белинского к Гоголю, и тургеневскому Базарову, по образу и подобию которого "строили жизнь" многие и многие молодые люди, и Достоевскому, рассказавшему о преступлении и наказании Родиона Раскольникова.
Литература, действительно, была всем. И насколько она в Отечестве "всё" — стало очевидно воочию 8 июня 1880 года, когда Достоевский произнёс свою знаменитую речь о Пушкине в Обществе любителей российской словесности. "Когда... я провозгласил в конце о всемирном единении людей, — то зала была как в истерике, когда я закончил, я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить... Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. "Вы гений, вы более чем гений!" — говорили они мне оба... С этой поры наступает братство и не будет недоумений" (из письма Ф. М. Достоевского жене). "Не просто речь, а историческое событие, — заявил Иван Аксаков. — С Достоевским согласны обе стороны: и представители так называемых славянофилов, как я, например, и представители западничества, как Тургенев".
Достоевский говорил о преодолении раскола русского сознания: "О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей".
Конечно, с этим согласны были не все. Речь вызвала полемические отклики и Глеба Успенского, и Константина Леонтьева.
Но вот, как интерпретировал основную суть речи Достоевского Вадим Кожинов четыре десятилетия тому назад: "...для Запада, выросшего на "сгнивших" развалинах поверженного древнего мира (культуру которого победители на данной стадии своего развития еще не могли оценить и принять), в новом мире существовал только один полноценный "субъект" — он сам; весь остальной мир был только "объектом" его деятельности. Как говорил одновременно с Гегелем Чаадаев, "Европа как бы охватила собой земной шар... все остальные человеческие племена... существуют как бы с ее соизволения". Эта мировая ситуация западной культуры чревата тяжелейшими последствиями, которые в наше время с жестокой ясностью предстали перед самим Западом.
Правда, и сознавая все это, нельзя переоценить величие истории Запада. Опираясь всецело на самого себя, он действительно явил торжество свободы деяния и мышления. Его история есть подлинно героическое освоение мира...
Да, западный человек в самом деле осознал себя по отношению к "внешнему миру" — и природному, и человеческому — в качестве "человекобога". Это было совершенно необходимой основой западной героики, западного свободного творчества. Но одновременно это означало, что Византия и государство ацтеков, Индия и Китай и, конечно, Россия — только объекты приложения сил Запада и не имеют никакого всемирно-исторического значения...
Сохранить и развить единство народности и всечеловечности — это не только труднейшая, но и в полном смысле слова творческая задача, которая для своего осуществления нуждается не только в разумном ее понимании, но именно в напряженном и вдохновенном творчестве.
И если происходит разрыв, распад единства всечеловечности и народности, первая вырождается в космополитизм, а вторая — в национализм. Оба эти явления, впрочем, характерны лишь для сугубо боковых, периферийных линий русской литературы; ее основное, стержневое движение всегда сохраняло единство всечеловечности и народности..."
<...>
Даже сейчас для многих эти мысли могут оказаться совершенно неприемлемыми — даром, что сформулированы они как будто в наши дни, а не полтора века назад... И в те же дни, когда писательское слово обретало связь с читателем на страницах газет, когда живое восприятие образа творца и его героя невозможно было заменить ничем, Лев Толстой писал о сущности искусства:
"Искусство не есть, как это говорят метафизики, проявление какой-то таинственной идеи, красоты, бога; не есть, как это говорят эстетики-физиологи, игра, в которой человек выпускает излишек накопившейся энергии; не есть проявление эмоций внешними знаками; не есть производство приятных предметов, главное — не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах".
А это — размышления Чехова о современной ему литературе:
"Теперешняя литература — это начало работы во имя великого будущего, работа, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего, Бога... (Чехов).
Пройдёт еще более полувека и в годы Великой Отечественной, нового "подъёма духа нации", когда классическая литература поверялась каждым днём современности, а каждый день современности — более чем тысячелетней отечественной историей, когда стихи Пушкина, Блока, Есенина, Тютчева, "Тарас Бульба" Гоголя, "Брусиловский прорыв" Сергеева-Ценского зачитывались до дыр солдатами и офицерами — Михаил Пришвин записывал в дневник:
"Теперь даже один наступающий день нужно считать за все время. Никто и никак теперь не может сказать, будет ли за этой жизнью в Усолье какая-нибудь другая благополучная, но все равно, эти дни суда всего нашего народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра Первого и всех нас будут значительней всех будущих дней...
О время, время какое! Все маски сброшены с государств и с церкви, и все пережитое человечеством в этих формах опрокидывается в открытую душу каждого, как бремя, которое он должен вынести..
...Ближе и ближе подступает к нам та настоящая тотальная война, в которой станут на борьбу действительно все, как живые, так и мертвые.
Ну-ка, ну-ка, вставай, Лев Николаевич, много ты нам всего наговорил!.."
Пройдёт ещё четыре десятилетия — и уже Вадим Кожинов обратится к нам — нынешним — словами статьи "И назовёт меня всяк сущий в ней язык..." связывая единым историческим контекстом пушкинскую речь Достоевского и отстоящую от неё на пять столетий Куликовскую битву, которая, по его словам "была битвой русского народа прежде всего с всемирной космополитической агрессией... Куликовская битва была направлена не против какого-либо народа, но против поистине "тёмных" сил тогдашнего мира. (Кожинов).
Опять же — словно о нашем нынешнем дне.
"Нигде не жизненна литература так, как в России, — это Александр Блок, — и нигде слово не претворяется в жизнь, не становится хлебом или камнем так, как у нас".
Художественное слово возвращает свою изначальную суть и ценность. Оно только начинает осваивать нынешний перелом времени и бытия, времени, которое требует героя, о котором писал Леонид Бородин:
"Снова востребован герой, не только понимающий смысл и знающий цену личной свободе, но осознающий личную ответственность перед миром, герой, способный узнавать те границы бытия человеческого, за пределами которых царство хаоса и всеобщего разрушения. Именно это первейшее понимание сути бытия помогает ему, новому литературному герою, выстраивать свою систему ценностей, где различение добра и зла обретает почти онтологическую основу".
Полный текст статьи Сергея Куняева «Писатель и общество» читайте в №6 «Нашего современника» за 2023 год.