ПРОЗА
ИРИНА ПИЧУГИНА
ТОНЕЧКА И ГРИША
РОМАН
Окончание. Начало в № 5,6 за 2025 год.
42. Советская Гавань. Лакомство. Плавно Амур свои волны несёт...
Плавно Амур свои волны несёт,
Ветер сибирский им песни поёт.
Тихо шумит над Амуром тайга,
Ходит пенная волна,
Пенная волна плещет,
Величава и вольна.
Там, где багряное солнце встаёт,
Песню матрос об Амуре поёт.
Песня летит над широкой рекой,
Льётся песня широко.
Песня широко льётся,
И несётся далеко.
Красоты и силы полны,
Хороши Амура волны.
Серебрятся волны,
Серебрятся волны,
Славой Родины горды.
Плещут, плещут, силы полны,
И стремятся к морю волны.
Серебрятся волны,
Серебрятся волны,
Славой русскою горды.
(Макс Кюсс. 1909 г.)
Приехали в Хабаровск утром. Слышали, как отцепляли одни вагоны, прицепляли другие.
Стоянка случилась долгой. Вышли поразмять ноги. Хорошо, что осень тут солнечная, тёплая.
Девочки носились по перрону, выплёскивали энергию.
И вдруг понуро вернулись. На платформе удивительная волшебница — мороженщица — продавала своё невообразимо желанное лакомство! Поразительно, и откуда она тут взялась?
Заворожённо девочки смотрели, как полная женщина, вся в белом, окунала маленький черпачок в ведёрко с водой, клала вафельку внутрь особых щипцов, затем быстро зачёрпывала черпачком пломбир и клала на вафельку, ловко шлёпала сверху вторую вафлю и зажимала щипцами. Всё, готово!
Просить девочки даже не смели. Знали ответ.
— Гриш, а?
— Эх, — махнул Григорий Сергеевич рукой и купил одну порцию.
В вагоне ножом хотел разделить на три части, но Антонина мягко покачала головой. Разделил на две.
Долго-долго девочки растягивали это наслаждение. Медленно облизывая пломбир, зажатый меж вафель. Пока тот не стал таять. Тогда они проглотили его одним махом и с благодарностью заулыбались отцу. Добрый он у них всё-таки. Хоть и любит учить.
Облегчённый состав паровоз тянул, как казалось, быстрее.
К Комсомольску-на-Амуре подъехали к вечеру. Волновались очень. Какая она, паромная переправа? Папина лекция — одно дело, а увидеть своими глазами — совсем другое.
Местность как бы раскрылась, как раскрываются две сложенные вместе ладони. Сопки давно отступили, поезд мчал по равнине.
Это же берег Амура! Какой ровный и огромный!
На горизонте показался город. Вот он, Комсомольск-на-Амуре!
Какой красивый!
Издалека белели дома. Видны были узоры трамвайных путей, по ним двигались серо-бежевые коробочки трамваев. За окном мелькали высокие каменные дома, золотые берёзы, пути и разъезды. На улицах города, видимых из окна вагона, ехали грузовики и редкие легковые. Шли люди.
Но на вагон неудержимо наваливалась блестящая гладь... это не океан! Это — Великий Амур! По-маньчжурски — Чёрная река “Сахалян-улла”...
Поезд замедлил свой бег, сильно дёрнулся несколько раз и встал.
— Всё! Переправа!
Прошёл проводник, громко объявляя:
— Для переправы всем выйти из вагона.
Все и вышли.
Люди толпились вокруг.
Верочка глянула на родителей и залюбовалась — как выделялись они среди окружающей их толпы. Всегда в военной форме, подтянутый, с неистребимой военной выправкой, их отец выглядел героем из фильма о войне. А рядом, прижавшись к нему плечом, стояла, как парила в воздухе, нежная их мама. Мягкое и чуть тревожное выражение лица. На Мусенковых поглядывали.
Их встретил резкий крик чаек, блики на спокойной серой глади реки слепили глаза, ветерок доносил запахи паровозного дыма, смешанного с резкой свежестью речной воды и осени.
Амур, холодный Амур!
Вдруг заахали! Антонина, стараясь не уронить достоинства, тоже поражалась увиденному.
А Верочка, та просто впала в экзальтированный восторг: к широкому, отсыпанному бело-серой галькой берегу подходил удивительный корабль! Двухэтажный со сложными конструкциями и многочисленными ажурными колоннами из металла, поддерживающими... крышу — так показалось Верочке, впитывающей впечатления, как губка воду.
Корабль — нет, чудо-паром — удивительно напоминал дворцы, те, которые возводились сталинскими архитекторами перед войной. Могучие колонны, портики, но и воздушность всего сооружения, в котором, несмотря на изящество, угадывалась титаническая мощь. На борту парома крупными буквами было выведено его название: “Волга”.
Вера внезапно вспомнила свой любимый фильм с Любовью Орловой “Волга-Волга”. Тот эпизод, когда под раздольную музыку на экран вплывают широкие, бесконечные ступени набережной, и вот он — величественный Речной вокзал столицы нашей великой советской Родины, Москвы!
Веру всегда в этот момент охватывал восторг и гордость. Гордость за нашу советскую страну, за её достижения! Ясно видела Вера светлые дали! И радостные люди в её воображении шли в коммунистическое будущее! И так непременно будет!
А этот паром явился к Вере из того самого будущего! Явился, несмотря на войну, лишения и голод! Вере хотелось запрыгать, засмеяться от обуревавших эмоций.
Тем временем происходили удивительные вещи: их состав как бы “саморазбирался” на вагоны, а погрузчик, установленный на носу парома, уже начал перемещать эти вагоны в многочисленные “стойла” второго этажа. Как ловко и быстро это делается!
Наконец все вагоны погружены.
Теперь запускают пассажиров.
Мусенковы стали в очередь и скоро оказались на борту чудо-парома. Здесь его огромность просто подавляла. Над головой ввысь вздымаются величественные опоры из рельсов. Девочки вдруг ощутили себя муравьями в огромной спичечной коробке.
Можно было вернуться в свой вагон, если найдёшь его среди путаницы рельсов гигантской платформы. Рельсов, проложенных, как Тоне показалось, строго в беспорядке. И вдоль, и наискось...
Угадав её мысли, Григорий Сергеевич пояснил:
— Тось, ну ведь надо весь состав с паровозом сюда как-то “утолкать”.
Многие люди разошлись по своим вагонам. Но Мусенковым было интересно посмотреть с борта на Амур. Собственно, это и был борт, не палуба для прогулок. Даже ограждения были не сеточные, близко подходить к краю не рекомендовалось. Выкрашенные серой краской металлические стойки и полосы — ограждения — определили узкое пространство между вагонами и бортом парома. Конечно, можно спуститься в тёмный глубокий трюм, посмотреть и его. Но мама Тоня девочек туда не пустила.
— Не скачите, козочки, это паром, а не площадь! Стойте смирно, если хотите посмотреть, как поплывём.
Григорий Сергеевич рядом разговаривал с местным. Тот сходил на том берегу в Пивани. По виду — нанаец. Пояснял, что “пивэнь” на их языке означает “точило”. Григорий Сергеевич подумал, что в Приморье сохранены старые местные названия населённых пунктов. По прошлым наименованиям стойбищ или китайских поселений. В основном сохранены.
Но тут из-под громады парома стали выбиваться большие волны, он заворочался, содрогнулся и стал разворачиваться, набирая ход.
В центре парома стоят широкие большие трубы.
— Это зачем? — спросила Вера.
Отец пояснил, заглянув в заветную книжку, что внутри парома бьётся дизель-генераторное сердце. Да и не одно! Целых шесть! Каждый дизель-генератор обладает огромной мощностью в 720 лошадиных сил!
— Ты учти, Вера, эти дизель-генераторы поставили нам по ленд-лизу американцы. Компания... “Дженерал моторс”. Вот как!
Вера попыталась было представить себе табун из 720 лошадей, но у неё воображения не хватило. А их таких — шесть! Ого!
Паром шёл на полном ходу по... так и просилось на язык “океану”! Нет, по великой реке. Ветер бил в лицо, приносил дождь холодных брызг. Серый Амур серебрился, расстилался под ногами, Тонечке казалось, что она летит-несётся над волнующимися, переливающимися волнами, парит, как чайка!
Опять пришла мысль: “Какой восторг!”. Кто так говорил? И Тоне явилась статная фигура, красивое, одухотворённое лицо. Да, та дама в Ворошилове! Она всё время повторяла эти слова. Но их полное значение Тоня поняла и ощутила только сейчас, в быстром полёте над Амуром!
И в душе её духовой оркестр немедленно развернул широкий и восторженный вальс, знакомый с детства всем жителям Владивостока: “Плавно Амур свои волны несёт...”
Какой восторг!
Переправились. Процедура пошла уже в обратном порядке. Через несколько часов, в полной темноте, поезд прочно стоял на рельсах. Пассажиров же существенно поубавилось. До Ванино Мусенковым предстояло ехать сутки в почти пустом вагоне.
43. Советская Гавань. Евлампий Петрович
Утром паровоз шёл по “однопутке” по таким впечатляющим местам!
Глядя окрест, Тонечка подумала, что слово “живописные” ничего не стоит по сравнению с картинами, разворачивающимися перед её глазами.
Железная дорога, круто свернув на восток, как будто прорезала насквозь сопки и гряды невысоких гор, ныряла в чёрные коридоры под кряжами, пробегала по насыпям, по бесконечным мостам и мостикам. Казалось, дорога была прорублена казацкой саблей в теле этой гористой местности, где не найти ни одного километра ровной поверхности.
Паровоз плавно тянул состав вверх-вниз, свистя, объезжал гористые склоны или тоннелями проходил горы насквозь. Изгибался. Из окна часто можно было увидеть или сам паровоз, или хвост их поезда.
Шёл состав неспешно. Местность не позволяла разогнаться. Иногда он останавливался, стоянки были разной продолжительности. Потом рывком трогал с места.
Всё можно было рассмотреть.
Гигантские насыпи возносили вагоны над перепадами между подножий лесистых гор. Вдали было видно, что в основном горы покрыты хвойными лесами. Но у насыпи, где поработали лесорубы, прочищая путь для железной дороги, успели прорасти берёзы. Они кудрявой бараньей шкурой покрывали спуски к насыпи или от неё, вниз, вниз. Берёзы стояли так кучно, тесно, сияя золотом осенней листвы, что хотелось высунуть руку и на ходу погладить их по солнечным головкам.
По рассказам отца Тоня знала, какую беду могут принести с собой эти нежные деревца. Бывало, казаки переселенцы, вырубив часть тайги под поле, неожиданно сталкивались лицом к лицу с плотной берёзовой порослью, которая мгновенно “выскакивала” на пашне. Тонкие прутики маленьких берёзок стояли стеной. “Хоть косой коси”!
Их и косили.
Кузнецы ковали особые, необыкновенно большие и крепкие косы для берёзовой напасти.
И тут, по просекам, Тоня видела ту же картину. Маленькие берёзы стремительно замещали срубленные лиственницы и кедры. Смотреть из окна вагона — приятно, а как в дальнейшем с ними воевать?
Иногда мосты через мелкие речушки как бы подпирали подножия гор. В одном окне вагона нависала лесистая гора, в другом — провал в речку. А насыпь бежала по прислонённому к горе длинному мосту, как по приставной полке.
Иногда каменистые склоны чуть не “лезли” в окно вагона. Было страшновато, так близко поезд “тёрся” возле скал, грозящих обвалом. На горизонте встали высоченные хребты Сихотэ-Алиня.
— Гриша, мы что, в горы поедем?
Возле них остановился сухонький старичок интеллигентного вида. Он давно прохаживался по вагону, внимательно поглядывая в сторону Мусенковых.
— Вы позволите? Я смотрю, вы тоже “от Пивани до Вани”. Тоня глянула на Григория Сергеевича, кивнула.
Старичок представился Евлампием Петровичем. Поведал им, что он — преподаватель в ремесленном училище Совгавани.
— РУ-13, три года назад организовали на базе завода № 1.
— Как кстати, — обрадовалась Антонина. И после ответного представления ему попросила: — Расскажите, пожалуйста, как у вас со школами.
— У нас есть школа, — степенно промолвил Евлампий Петрович. — И учителя в ней тоже хорошие все. Я думаю, — тут он со значением поглядел на Григория Сергеевича, — думаю, всё у вас будет хорошо. Отлично, значить. Я не спрашиваю, по какой надобности вы к нам едете. Мне и так всё ясно. По казённой... А вы, уважаемая Антонина Степановна, совсем не беспокойтесь, ничего не бойтесь, значить. Народ у нас особый. Не простой народ наш. Но он хороший, душевный, значить, народ. Кто сам много перестрадал, мил человек, — обратился Евлампий Петрович внезапно опять к Григорию, — тот справедливость, значить, выше всего и ценит. Как и сердечное к себе отношение. Доброту, значить.
Произнеся эти загадочные и туманные слова, старичок резко сменил тему.
— Я тут краем уха услыхал... Вы думаете, мы в горы помчим? Нет. Мы, значить, приближаемся к замечательному месту — Кузнецовский перевал. Там мы уйдём, значить, под горы! Под Сихотэ-Алинь. Пробивали этот тоннель в 1944–1945 годах. Длина его, значить, четыре сотни метров. Четыреста тринадцать, если желаете знать точно. Когда пробивали его, перекрыли, значить, дамбой одну из проток реки Хунгари! Что же, и тоннель теперь зовётся — Кузнецовский. В честь Арсения Петровича, значить.
В ответ на вопросительный взгляд девочек Евлампий Петрович пояснил:
— Начальник он был. Изыскательской партии. Помер, значить, в ходе строительства и упокоен там же. У восточного портала тоннеля этого.
Старик помолчал, как повспоминал чего. Потом продолжил:
— Простой деревянный крест, значить, поставили. А рядом, такую, — тут он показал руками в воздухе, какую, — беседку деревянную. Там дорожная охрана, значить, в непогоду ховается. Укрывается, значить. Вон он! Подъезжаем!
Старик, кивнув, ушёл к себе.
А паровоз уже подходил к красиво облицованному серым камнем порталу. По его верху были выбиты ровные цифры “1944–1945”. Возле въезда стояла охрана с автоматами. Паровоз, резко загудев, окутавшись чёрными клубами дыма, нырнул во тьму.
...Через время, когда подъезжали к порту Ванино и были “в боевой готовности”, опять к ним подсел учитель.
— Чтобы ожидание скоротать, значить, разговорами.
Евлампий Петрович, который, как казалось, знал тут всё и всех, сообщил, что постройка здешнего порта началась ещё в войну, в 1943 году, а в 1945 подвели железную дорогу.
— А деревянные вокзалы? Как, приметили? — спросил у Тонечки Евлампий Петрович, улыбаясь в усы.
Действительно, Тоня с удовольствием рассматривала хорошенькие маленькие “теремки” деревянных вокзалов на станциях. Вокруг них деловито сновали, видно достраивали, маленькие фигурки.
— Это строят японцы, военнопленные, значить, — спокойно сообщил старый учитель, как бы и не глядя на Григория Сергеевича. — Такие искусники, да-а, поди ж ты, рукодельная нация.
Григорий Сергеевич старался со старичком в беседу не вступать. Полунамёки бесили его. Кто его знает, что это за старик. Может, провокатор какой. Без мыла лезет...
Зря Тося его приветила. Прёт и прёт на рожон старик!
— А вы, Евлампий Петрович, отчего тут — в поезде, а не в училище? — наконец процедил Григорий Сергеевич. — Октябрь, школьный год начался.
Учитель не рассердился, будто ждал этого вопроса. Он пустился в детальный рассказ, пересыпанный бесконечными “значить”, о том, как ему удалось “выбить” несколько особенных шлифовальных... или, чёрт его знает каких там, станков — Григорий Сергеевич так и не вник. Главное, теперь эти станки едут в багажном вагоне, а учитель их сопровождает от Комсомольска-на-Амуре. Вывернулся, старая лиса!
Но тут показалось...
— Море! — закричала Лиза.
— Нет, девонька, — поправил её Евлампий Петрович, — пока не море то. Река, значить. Тумнин. Он тут, севернее Ванино, впадает в Татарский пролив. По берегам живут местные орочи, не слыхали?
Девочки отрицательно помотали головами. А старый учитель продолжал:
— Живут они в “туэдя” — полуземлянках, значить. Да-а... разбросаны туэди ихние по берегам реки. Далеко друг от друга. Живут, значить, орочи рекой. Тут рыбачат, тут охотятся. — Ты, девонька, — вдруг оживился старик, весело подмигнув Лизе, — слыхала, говорят — “шуба на рыбьем меху”? Так эти орочи умеют, значить, себе одежду шить прямком из рыбьей кожи!
Лиза удивлялась, старик учитель ей нравился.
Туман стоял над водой, но не плотный, а волокнистый. Низкий мягкий ореол садящегося солнца в дымке делал всё перламутровым, розовым и голубым. Вид из окна вагона завораживал. Что-то белое качалось на волнах. И вдруг — поднялось и закружилось в воздухе, почти билось в окно вагона. Оказалось — это тучи чаек. Лиза от неожиданности аж отпрянула от стекла.
— Подъезжаем, — уверенно говорил Евлампий Петрович. — Вон в заливе — остров, значить, его по-местному зовут Токи.
— Та круглая тёмная лепёшка? — уточнила Лиза.
— Она. Простой плоский камень. В ширину около двухсот метров, значить. Что сказать, на нём, кстати, лежбище тюленей. Да вы же не охотитесь...
Проводник прошёл по вагону, провозглашая,
— Конечная станция. Ванино.
Учитель распрощался и бодро убежал.
Мусенковы собрали багаж и приготовились выходить.
Вот и прибыли.
44. Советская Гавань. Приехали! История города
За новеньким деревянным вокзалом, расположенным почему-то непривычно далеко от перрона, Григория Сергеевича и его семью поджидала потрёпанная легковушка. Шофёр поприветствовал его. Вытянувшись, отдал честь.
Семья загрузилась, поехали.
Сам город Советская Гавань был недалеко. Менее чем в двадцати километрах. Ехали по гористой местности. В сумерках всё же был различим Татарский пролив. Скоро на горизонте справа на небе нависла мрачная чёрная туча. Водитель сказал, что это хребет Советский, отрог Сихотэ-Алиня.
Девочки тихо обменивались впечатлениями, Тоня молчала. Несмотря на заверения учителя, ей было тревожно.
Григорий Сергеевич размышлял. Всё больше о том, что прочёл об этих местах.
Вот он, Татарский пролив, разведанный ещё в 1853 году одним русским морским офицером. “Каков, однако, был энтузиазм русских моряков, горевших желанием прирастить Россию и Сахалином, и этими землями, — думал Григорий Сергеевич. — А вот царскому правительству того не сильно-то того хотелось, как теперь видится. Хлопотно, видишь, им было. “Вот неповоротливые”, — выругался он про себя. Вспоминал дальше...
То и пускались моряки на разные ухищрения! Желая привлечь внимание императора к освоению восточных территорий, первооткрыватель вынужден был дать заливу название — “Гавань Императора Николая Первого”. Но прижилось иное имя — “Императорская Гавань”.
А ведь местные власти старались! Сильно старались!
Здесь был построен маяк, старейший на Дальнем Востоке.
Здесь в 1908–1909 годах, а после — в 1927 году комплексными экспедициями по Сихотэ-Алиню и окрестностям ходил один из любимейших писателей Григория Сергеевича — Арсеньев.
Здесь в 1922 году была арена кровавых битв между красными партизанами и белыми офицерами. В результате город стал называться Советская Гавань.
Советская власть энергично взялась за развитие удобной гавани.
Здесь возникли Северский судоремонтный завод и Майская ГРЭС — старейшая в Приморье.
“Электрификация тут проведена отменно, — решил Григорий Сергеевич, везде замечая столбы и провода. — А вот дороги... Нет тут дорог. Никаких. По обеим сторонам улицы... Вот что это? Высокие деревянные... мостки какие-то. Сбиты из досок, и перила есть. Выходит, тут грязь месят и весной, и летом!”
Перебирал Григорий Сергеевич известные ему факты. Размышлял над ними.
Здесь в 1940-м укрепрайон был преобразован в военно-морскую базу Северной Тихоокеанской военной флотилии.
Здесь были возведены береговые батареи для отражения противника с моря. Конечно, если напротив — через Татарский пролив — южная, японская тогда, часть острова Сахалин!
...На Сахалинской заставе... Ох и тяжело же было, если теперь вспомнить! А что у них с Тосей в жизни выходило легко? Просто диву даёшься, как им удалось живыми выйти из всех... передряг, одним словом.
Он-то сам хорошо помнил малолюдную и пришедшую в полное запустение нашу северную часть Сахалина, простиравшуюся за его, пограничника Григория, спиной. И по контрасту — впереди раскрывались его взгляду роскошные в тогдашнем его понимании постройки, дома и дороги на вражеской японской стороне! Эта разница уровней жизни злила и ожесточала его против японских кровопийц империалистов, захвативших и удерживающих почти до 1925 года весь остров. Пока-то мы отвоевали назад северную часть!
Да... отсюда, из Советской Гавани, на японскую часть Сахалина в Маока высадился наш десант. И весь остров стал нашим. Наконец!
Теперь Сахалин — весь советский. Японцы оставили в наследство промышленные предприятия и развитую сеть железных дорог. Надобность в береговых батареях Советской Гавани якобы отпала. Да полно, отпала ли? Страшная война окончена, а разбили ли мы капитализм? Нет. Мир — это передышка перед новой войной. Иначе капитализм жить не может!
“Теперь Совгавань и порт Ванино приобрели первостепенное значение, — подумал Григорий Сергеевич. — Теперь, когда этим летом, 1946 года, в порту Находка взорвался пароход “Дальстрой”, страшно, невозвратно разрушив портовые сооружения... Тоже стоит задуматься, история, однако...
Здесь теперь предстоит ему быть начальником лагеря для военнопленных японских офицеров...”
Вот она, та мысль, что он усиленно прятал, не давал ей выхода. Которую пытался заглушить историческими выкладками. Но она, эта мысль, исподволь грызла его, подтачивала.
Всё, хватит!
Что за недостойное нытьё!
Он приложит все силы, чтобы достойно выполнить порученное ему дело. Он всё сделает как положено.
В густых сумерках проехали мимо огороженной территории, мимо тесовых ворот. Территория была довольно обширна. Там стояли, сверкая желтизной новых досок, различимые даже в подступившей темноте бараки и несколько зданий — контор и служб по виду.
Ехали дальше. Вдруг в сумерках забелела свежими брёвнами... избушка? Крытое крылечко, нечто вроде крохотной верандочки. “Фанза”, — для себя решила Тоня.
Это и был их новый дом.
Быстро выгрузив вещи и высадив семью, Григорий Сергеевич отправился на территорию.
Тоня и девочки огляделись, насколько было возможно.
Вокруг избушки — небольшой дворик. В одной его части можно было разбить огородик. Но это потом, по весне. К глухой стене дома прислонена большая поленница дров. Отлично! А вот и удобства, как обычно — на дворе.
Зашли внутрь. Щёлкнули большим чёрным выключателем. Под потолком засветилась электрическая лампочка.
Всё сияло новым, и в домике приятно пахло свежеструганым деревом. На досках длинными потёками застыла янтарная смола. Лиза не удержалась, отломила смоляную сосулю, сунула её в рот. Приятный вкус, даже освежающий после дальней дороги. Страшно хотелось есть. Вера посмотрела и последовала примеру сестры. Скоро они обе набили рот смоляным угощением. Глотать нельзя, но пожевать, обмануть голод — отчего и нет?
Тонечка стояла посреди единственной в доме комнаты. Дощатая перегородка отделяла угол с оконцем. Понятно — под кухню и иные хозяйственные нужды. Рядом с перегородкой был маленький ящик с гвоздями, ножовкой и молотком. Окон было всего два. Но света хватало. В углу сложена была большая печь. Стол, четыре грубо сколоченных табурета. Имелись и топчаны. Два маленьких и один большой. Новые одеяла и тюфяки. Четыре подушки. Стопка грубого постельного белья. Понятно, их тут ждали.
Скоро вернувшись, Григорий Сергеевич застал дома то, что и ожидал. Семейный уют.
Тоня занавеской отделила большой топчан. Вбила в стены два гвоздя и натянула верёвку. На неё накинула простыню. Вот и готова родительская спальня. Теперь Тоня хлопотала на импровизированной кухне. Девочки, устав за день, уже спали.
— Гриша, — шёпотом спросила Тоня, — ну как там?
Муж нахмурился и жестом указал на девочек. Потом, мол. А вслух сказал:
— Завтра им в школу, а ты, Тоня, готовься выйти на работу. Будешь у меня заведовать материальной частью. Больше мне положиться не на кого.
— Я? Ты уверен? Я смогу? Не сердись, Гриша, я всё понимаю, я смогу!
45. Советская Гавань. Будни лагеря для японских офицеров
Наутро, наскоро собравшись, Антонина повезла дочерей в школу на присланной по этому случаю машине. Григорий Сергеевич ни свет ни заря был уже на работе.
Машина шла по городу Советская Гавань.
Да город ли это?
Тонечка видела одноэтажные деревянные дома и двухэтажные бревенчатые ... бараки? На главной улице, Приморской, уже начато строительство первых кирпичных зданий, скорее всего жилых домов. Может, будет и школа.
Тоня разглядела строителей — японцы. Хорошо одеты. Не то что угрюмые местные жители, встречающиеся им. Те даже не проявляли любопытства, не оборачивались вслед машине, смотрели только себе под ноги и шли по своим делам. На лицах встречных Антонина видела ясно читаемые ею приметы голода. Детей было много. Все шли в одну сторону.
Везде вместо тротуаров Тоня видела высокие дощатые мостки. Они сказали ей о большой грязи, случающейся тут. Подумалось: “Недалеко остров Сахалин”.
Память увела её в юность. Но вспоминала Тоня не убогое и холодное житьё-бытьё их на границе, не страшные разбойные вылазки японцев, нет!
Тот холодный остров стал их первым домом, принял их в свои объятия — юных, страстно влюблённых. Такое не забудется. Никогда. В сердце её остались всё больше воспоминания о чистых озёрах, о лебедях, любующихся собой в ледяной воде, о полянах, покрытых по весне жёлтым лилейником, тигровыми лилиями и синими и голубыми мелкими ирисами. О кедрах, пихтах и лиственницах, о постоянном ощущении, что ты живёшь на дне огромной синей чаши из сопок. Тоня даже вздохнула. Что пройдёт — то будет мило. Так и есть. Так и есть.
Указав на двухэтажное старое здание из почерневшего от времени и непогод дерева, шофёр сказал, что это — школа. С замиранием сердца Лиза и Вера вошли...
Антонина Степановна оказалась не совсем уж новичком в порученной ей работе. Она и сама удивилась, как ловко сумела принять склад, как скоро вошла в курс дела. Принять заявки, обсчитать их, выписать продукты по норме, проверить наличие одежды на складе — тысячи дел легко, как бы играючи вершила быстрая Тоня. Григорий Сергеевич и сам не ожидал, что у его жены такая рабочая хватка. Два дня — и на складах всё переписано и учтено. А Тоня летает с охранником и японцем-переводчиком, проверяет столовую и закладку продуктов на завтрак, обед и ужин. Дотошное соблюдение необходимых инструкций Тоня приняла как вызов себе. Раз положено — так и будет!
Лагеря для военнопленных японцев обеспечивались и курировались Международным Красным крестом. От Григория Сергеевича требовалось создать безукоризненный порядок.
Распорядок жизни для военнопленных в лагерях МВД выглядел так.
1. Подъём — 6.00
2. Перекличка — 6.30
3. Завтрак — 7.00
4. Вывод на работу — 7.30
5. Обеденный перерыв — 14.00–15.00
6. Окончание работы и ужин 19.00 — 20.00
7. Вечерняя поверка — 21.00
8. Отбой ко сну — 22.00
— Гриш, а эти проверяющие из Красного Креста, они сурово спрашивают? Или не очень?
— Да Бог их знает, может, и не приедут к нам совсем.
— Нет, Гриш, лучше всё привести в порядок, как нужно.
Тонечка теперь просто молилась на “инструкцию”. Жила по ней. Как стихотворение, затверживала нормы продуктов, положенные в день на одного военнопленного японского офицера. Это же теперь их с Гришей подопечные.
Писала матери: “Не поверишь, но нормы на человека даны такие богатые! Одного рису в день — 400 грамм! А ещё хлеб, соя, крупы, жиры, овощи! Всё это мы им выдаём на кухню. Повара там — только японцы. Русских нет. Вроде бы много еды, три раза в день хорошо кормят их в столовой. А они, странные люди, всё равно такие ужасы едят! Теперь картофель местные выкопали, так эти “наши” японцы ботву собирают, перетирают и лепёшки пекут. А лягушки! Пока ещё болотца не замёрзли, ловят лягушек. В лагерь притаскивают и жарят! Меня чуть не вывернуло, как увидела однажды”.
Тоня отложила ручку и задумалась. Да, удивительно велик и разнообразен рацион японского пленного офицера. Перед ней лежал листок с инструкцией.
И ТУТ ТАБЛИЦА
Таблица I.5
Норма № 1 суточного довольствия военнопленных рядового и унтер-офицерского
состава и норма № 2 для общегоспитальных больных военнопленных японской армии.
|
№ п/п |
Наименование продуктов |
Количество в граммах |
|
|
|
|
Норма № 1* |
Норма № 2 |
|
1. |
Хлеб из муки 96 % помола (норма № 2 мука 72 % помола) |
300 |
|
|
|
200 |
|
|
|
2. |
Рис (полуочищенный) |
300 |
400 |
|
3. |
Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых) |
100 |
100 |
|
4. |
Мясо |
50 |
50 |
|
5. |
Рыба |
100 |
100 |
|
6. |
Жиры растительные (норма №2 животные) |
10 |
10 |
|
7. |
Овощи свежие или солёные |
600 |
500 |
|
8. |
Мисо (приправа к кушаньям из бобов) |
30 |
30 |
|
9. |
Сахар |
15 |
20 |
|
10. |
Соль |
15 |
15 |
|
11. |
Чай |
3 |
3 |
|
12. |
Мыло хозяйственное в месяц |
300 |
300 |
|
13. |
Молоко свежее |
– – – |
200 |
|
14. |
Табак |
– – – |
10 |
|
15. |
Спички (в месяц) |
– – – |
3 кор. |
ИЛИ ТАК
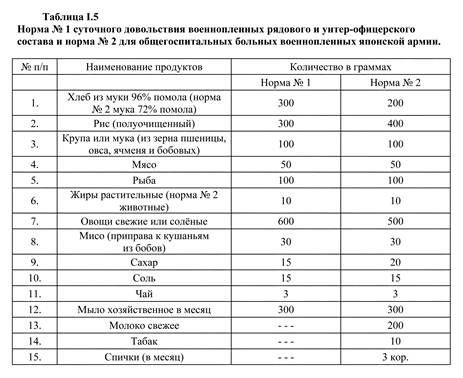
Григорий Сергеевич в своём качестве начальника лагеря довёл до её сведения как завхоза: прислали распоряжение выдавать их “контингенту” продукты по Норме № 2, потому что все — офицеры. Войсковая “белая косточка”.
Хорошо обеспечены японцы и одеждой. Тоня проверила наличие на складах шапок-ушанок, полушубков, тёплого белья и, особенно, обуви. Осенней. И для зимних холодов.
Вот как будто они не военнопленные, а больные, на санаторном лечении.
Даже обидно!
Японцы воевали на стороне Гитлера, значит, все поголовно были фашисты. А теперь мы их так содержим, они сыты и тепло одеты...
А победители... Наши обычные советские люди падают в голодные обмороки и одеты в такое рваньё! Даже стыдно бывает перед... перед военнопленными!
И не только здесь, в Совгавани, такое положение. Уж она-то, Антонина, много повидала. Помотала их жизнь. Везде люди не живут, а выживают. Да ещё среди развалин.
Как же так получается?
Если пересчитать паёк их “подопечного офицера” на текущие цены продуктов, то выходит — у обычного совгаванчанина зарплата должна быть раз в шесть больше, чем теперь. И то только чтобы питаться как пленные японцы!
Дочки рассказывают Антонине, что семьях их одноклассниц едят — Тоня непроизвольно передёрнулась, вспоминая: отруби, даже не хлеб.
Некоторые взрослые и дети дошли до дистрофии. Антонина вспомнила, как Вера, ужаснувшись виду некоторых одноклассниц, стала потихоньку подтаскивать еду из дома — отдавала в школе особенно несчастным. Тоня видела это, но дочь не останавливала. Понимала. Сама переживала.
Так кто кого победил?
Быстро затолкнула Антонина эту мысль туда, откуда она и выпорхнула. С такими мыслями — беды не оберёшься. Не её это дело — размышлять. Её дело — чётко исполнять!
И всё тут.
Новая работа было совершенно незнакома и для Григория Сергеевича.
Но за доверенное дело он взялся горячо. Как везде и всюду — заботился о личном составе, пусть даже это были военнопленные японцы.
Силами заключённых достроили бараки, в бараках были сложены печи. Наладили помывочно-прачечные пункты.
Заработала и пекарня.
Он обеспечил бесперебойное снабжение и питание согласно нормативам. Готов к проверке.
И укомплектованность медицинского блока тоже была полнейшая. Но это всё присылал Красный Крест.
Тоня поразилась, в первый раз пробегая глазами списки лекарств и медикаментов. Они поступали ей на склад по линии Красного Креста. Антонина тут же по ведомости сдавала их все в амбулаторию и больничку при лагере. Врачи и медбратья там тоже были — исключительно японцы.
46. Советская Гавань. “Полковник, господин Исида”
Тучи закрыли всё.
Что зреет у них внутри?
Кто может сказать?
С больничкой этой у Антонины была связана неприятная история, заставляющая её внутренне сжиматься от стыда за своё поведение. Правда, эту неловкость она допустила по незнанию — не знакома была Тоня с японскими обычаями.
А дело было так.
В первую неделю своей работы, когда смущение от новизны естественным образом сменилось некоторой самоуверенностью, что она всё уже знает, Тоня решила сама “сбегать” в больничку, предложить доктору “принять” медикаменты по списку, а на самом деле — познакомиться. Доктор — везде знакомство необходимое, особенно когда обе дочери простыли при переезде.
Решила, ну и побежала. Переводчик был при ней. Какие тут проблемы?
В свои тридцать три Тонечка была как куст пионов в июле. Пышно расцветший и сверкающий свежестью лета.
Причёску “корону” она сменила на “корзинку” на затылке. Корзинка из кос тяжело оттягивала голову назад, придавая статной Антонине царственности. Мягкость и округлость её движений радовали глаз, вокруг неё был ореол доброты и женственности. Но при этом проглядывала эдакая “изюминка”, пикантная живость характера, интригующая, притягивающая и чарующая.
Грубость и Тонечка — вещи несовместимые. Поэтому Тоне всегда и везде легко и естественно удавалось расположить к себе совершенно разных людей. И важную театральную даму в Ворошилове, и старого поселенца-учителя в поезде, и местных в Молдавии, а теперь вот — японцев. Все попадали под обаяние её натуры.
Итак, найдя предлог познакомиться с доктором лично, Антонина впорхнула в больничку.
В приёмном покое никого не было. Не обращая внимания на кучку обуви у порога, Антонина пролетела дальше.
Кабинет доктора? Шагнула в отворённую дверь и застыла на месте.
В маленькой комнатке, на чисто вымытых, просто отполированных досках пола лежали циновки. Стоял низенький столик, на нём Тоня заметила удивительную деревянную доску для какой-то игры. С двух сторон от столика как-то на пятках сидели два человека.
Один был в белом халате. Доктор.
Другой — довольно крупный, незнакомый Тоне японец. Короткий седой “бобрик”, круглые очки, аккуратные усики, офицерский мундир без знаков отличия. Его начальственная важность и ясно ощущаемая внутренняя сила, казалось, заполняли собой всю комнату. Подавляли.
Незнакомец держался прямо, “как аршин проглотил”. Он спокойно сидел, уперев руки в колени, и с высокомерно-скучающим видом ждал, когда его противник сделает свой ход.
Доктор, который тряс небольшой мешочек, резко выкинул кости. Он сидел на гораздо большем расстоянии от столика, спиной к двери. Сосредоточенный на игре, доктор не заметил появления Антонины. Со вздохом разочарования старичок глянул на выпавшие кости и, униженно согнувшись чуть не пополам, придерживая одной рукой рукав халата, чтобы не нарушить расположение камушков на доске, сделал свой ход. Тут, подняв глаза на своего визави, он увидел в лице того — нечто.
Обернулся.
Оба теперь смотрели на Тоню.
В такие моменты замечаешь всё.
И то, что оба сидящих на блестящем чистотой полу игрока были в белых носках.
И то, что Тоня, забежав с улицы, оставила туфлями следы осенней непогоды на этом безупречном полу.
И то, что переводчик потому задержался, что разувался у порога, и теперь спешил к ней.
И то, что старенький доктор несколько испуган.
И то, что тот, другой, пристально глядит на неё, залившуюся краской от смущения и неловкости. Глядит узкими щёлочками черных глаз, более похожих на провалы в пропасть. Породистое лицо его ничего не выражало.
Этот страшный человек бесстрастно глядел на неё или сквозь неё?
Оба японца вдруг оказались на ногах, стояли перед ней. Доктор — чуть согнувшись, тот, другой — величественно и непринуждённо.
Переводчик сказал что-то (Тоне показалось, прозвучало её имя), получил ответ и перевёл:
— Доктор Ёсикава счастлив познакомиться с Вами. И представляет Вам полковника, господина Исиду.
Оба японца склонили головы. Здоровались.
Антонина тоже кивнула. И умоляюще глянула на переводчика. Тот затараторил что-то, видимо, рассказал о деле, что привело заведующую хозяйственной частью сюда и прервало столь занимательную игру.
Доктор кивнул, соглашаясь, и жестом пригласил Антонину пройти в первую комнату.
Второй и не думал идти с ними. Он ещё раз изящно поклонился, теперь в прощании. Тоня опять кивнула. И вышла, чувствуя на себе тяжёлый взгляд.
Быстро пройдя с доктором на склад и передав ему под расписку медикаменты, Тоня убежала к себе.
И расплакалась.
Надо же так опростоволоситься!
Забыть, что японцы разуваются в помещении.
Запачкать такие чистые полы!
И этот человек, кто он? Почему так важно и высокомерно ведёт себя?
Антонина еле дождалась вечера. И узнала от мужа, что познакомилась с самым главным из японских офицеров лагеря.
Григорий Сергеевич не был особо доволен “ляпом” жены, но и не ругался, понимал, что так вышло случайно. Но попросил впредь быть осторожнее и сдержаннее.
— Гриша, а что это за полковник? Он держит себя на целого генерала.
— Тося, конечно, он не полковник и никакой не “господин Исида”. Но мы согласились так его звать. А его настоящее имя и звание — тебе это знать не нужно.
— По нему видно, что он знатного роду, перед ним доктор просто пресмыкался.
— Тоня, пойми, тут у них свои порядки. И всё своё. И повара, и врачи, и начальство.
— Что? Что ты говоришь, Гриша! Это ты у них начальство!
Григорий Сергеевич помолчал. Подумал.
— Тоня, “Полковник”, этот “господин Исида”, здесь, в лагере, вроде самого главного генерала. При нём и его “штаб” есть. Из офицеров. Он получает от меня распоряжения, но сам распределяет, куда кому отправляться, сам вершит свои порядки, и только, — Григорий Сергеевич поднял палец вверх, останавливая возмущение жены, призывая её к молчанию. — Только есть обязательное условие: работы все выполняются точно и в срок, в лагере тишина и порядок, никаких происшествий. Вот такие дела. Ты пойми, они же не просто взяты в плен в бою, они оказались сданными нам в руки их собственным императором Хирохито. Их собственным генеральным штабом. Приказом о безоговорочной капитуляции от 14 августа 1945 года. И Квантунская армия, и их Экспедиционная армия в Китае на территории Советского Союза не воевали. Хотя могли, конечно. Но японцы завязли в Китае и не дошли до нас. А иначе, — тут Григорий Сергеевич, передёрнулся, — иначе воевать бы нам не только на западе с Гитлером, но и на востоке с миллионной японской Экспедиционной армией, и с семисоттысячной Квантунской армией. Понимаешь? Китайская народная армия им не дала того сделать. Не пропустила их на север Китая к нашим границам. А теперь, когда японцы сдались нам, они будут на нас работать. Строить. Восстанавливать. Добывать лес и на рыбных промыслах. Работать везде, куда их повезут. Сама же видела, одни женщины и старики в материковой части СССР. Так пусть теперь немцы и японцы пленные работают! А “Полковник” нам только в этом помогает. И пусть будет так.
Антонина переживала.
Но справилась. Стала осмотрительнее и умнее.
Однако “Полковник, господин Исида” не давал о себе забыть. Когда по делам службы Антонина бывала то здесь, то там, случалось, как из-под земли он вырастал перед ней. Всегда утончённо вежливый, он довольно низким для японца голосом осведомлялся, всё ли идёт в хозяйственной части по плану, не нужна ли его помощь.
При этом он никогда в глаза ей не глядел. Смотрел мимо собеседницы. Лицо его всегда оставалось бесстрастным.
Антонина отвечала через переводчика, что всё идёт как надо. Благодарила за внимание к делам хозяйственной части. Покланявшись друг другу, как два болванчика, они расходились по своим делам.
Но Тоня шестым чувством понимала, что неспроста “господин Исида” столь любезен. В его присутствии, обычно живая и весёлая, Тонечка как-то подбиралась. Что-то неприятное и особенное — и тянуло ей душу, и сковывало по рукам и ногам. А “господин Исида”, скорее всего, тоже это чувствовал. И, по всей видимости, его такое положение вещей не радовало. Но он упорно продолжал свои “визиты вежливости”.
Тоня жаловалась мужу:
— Ну что он — как проверяет меня...
— Да наплюй ты, Тось, — говорил Григорий Сергеевич, — человек должен порядок держать, вот и держит.
Не могла Тоня рассказать мужу, что углядела она нечто иное в чёрных и невыразительных глазах “господина Исиды”. Какие-то сполохи тёмного огня мерцают в них, когда он нарочито небрежно задаёт свои обычные вопросы, привычно глядя как бы сквозь неё. Теперь Тоня старалась лишний раз из своей конторы или склада не выходить.
Через несколько недель её “затворничества” величественный “господин Исида” внезапно появился у неё в каморке.
Дело было в том, что японские офицеры были, как сказал в поезде Евлампий Петрович, “рукодельны до чрезвычайности”. И наладились они мастерить куколок. Вернее, ёлочные украшения. Из простой соломы и лоскутков, из серебряных обёрток от чая, из всякой мелочи могли они “слепить” волшебство! Человечка или зверушку, или вообще непонятно что, но красиво! И нарядно. Да ещё покрывали клеем, жидким стеклом, на манер лака, чтобы держалось лучше и блестело притом. Лучше заводских игрушек казались они Тоне.
И вот эти украшения японцы сдавали ей на склад.
Такая была договорённость: они тешат душу, мастерят, но пойдёт это на Новый год, на школьную ёлку.
В очередной раз принесли игрушки. И вместе с тем японцем, кто обычно сдавал ей ёлочные украшения, пред Тоней теперь стоял и “господин Исида”. Антонина нервно приняла партию украшений. Офицер сдал игрушки, ушёл. Но “господин Исида” медлил.
Обычно в своей “конторе” Тоня обходилась без переводчика. Не было его и теперь.
И у Тони сдали нервы. Она вышла из-за стола и, в упор глядя на “господина Исиду”, гневно выпалила:
— Что вы ходите за мной! Я — мужняя жена, и ваше поведение просто неприлично! Перестаньте!
И добавила, уже на полтона ниже, своё любимое:
— Уймитесь...
Он всё понял. Блеснув глазами, быстро поклонился, вышел. И с тех пор более Антонину не смущал. Иногда она ловила его косой взгляд, когда они с Григорием Сергеевичем шли домой мимо больнички. Но с тех пор этот взгляд уже потерял свою власть над нею.
47. Советская Гавань. Школьной самодеятельности — быть!
Тем временем пришла зима, и на пороге был новый, 1947 год.
А что же девочки? Как протекала их жизнь в совгаваньской школе? Учёба шла своим чередом. Неплохо. В классах отлично топили. И впервые за несколько лет Лиза и Вера сидели на уроках без пальто.
Как складывались их отношения с одноклассниками?
Девочки как в поезде договорились, так и сделали.
Поставили себя в школе сразу. И не высокомерием, а талантами!
В один из первых дней после приезда Лизочка в удивлении рассказала маме Тоне, что “здесь — никакой школьной самодеятельности, вот никакой”!
Мама Тоня, озабоченная своими новыми серьёзными обязанностями, рассеянно предложила:
— Так вы с Верой этим и займитесь.
И они занялись. И как занялись! Накануне праздника Седьмого ноября Лиза и Вера предложили учительницам своих классов устроить концерт школьной самодеятельности. И получили в ответ:
— Нет, никто тут этим заниматься не станет. Тут народ серьёзный. Не скоморохи какие.
Скоморохи?
Не станут?
Взъярившись, Лиза и Вера предложили устроить концерт своими собственными силами. Посмеявшись горячности “новеньких”, учителя согласились.
— Выставят себя на посмешище — поскромнее станут, столичные жительницы.
Когда родители вернулись домой, Лиза со слезами на глазах сказала, что теперь отступать нельзя!
И они с Веркой сделают концерт! Хоть треснут, а сделают!
И всем покажут!
Школьный баянист будет с ними репетировать и даже принёс бубен.
А мама должна им помочь и смастерить костюмы.
Вот новая напасть! Костюмы?
Но Антонина не растерялась.
Марля у неё была. Та самая, которая служила во Владивостоке шторками.
Тоня умело выкрасила её. Пошила юбочки и накрахмалила.
Вот и вышли “балетные пачки”.
Когда в очередной раз ей на склад сдавали ёлочные безделицы — плод развлечений японских офицеров, Антонина через переводчика растолковала, что её девочки хотят выступать и им нужны испанские головные уборы и кастаньеты.
К удивлению Антонины, её поняли. А через неделю передали нечто вроде маленьких бумажных чёрных коробочек — прикрепить на головы. Шапочки эти были изящно украшены бумажными розами.
Смастерили и... кастаньеты? Во всяком случае, эти штуки щёлкали!
Горячо поблагодарив японских умельцев, Тоня понесла это богатство домой. Какой же рёв восторга издали её дочки!
— Теперь-то все увидят, все поймут, что такое самодеятельность!
За пару дней до общешкольного концерта танцевальные номера решили просмотреть учителя, чтобы чего не вышло.
— И им понравилось! — вопила Лизочка дома. — Веркина делак... деклыма... в общем, стихи тоже понравились! А Цыган наш молодец какой! Я ему мелодию напела, так он сразу сыграл!
— Это что ещё за “цыган”? — сурово поинтересовался Григорий Сергеевич.
— А, музыку у нас ведёт. Старый такой. Учитель. Ну, не совсем учитель... Его девочки все называют Цыган. Он из поселенцев, тоже каторжный был, — так запросто и сообщила Лиза.
Родители потрясённо молчали...
А Вера переживала. Она видела, как голодно живётся многим девочкам в её классе, некоторые просто опухли от голода, как и она в Ворошилове. Понравятся ли, нужны ли вообще их “номера” голодающим?
Теперь, когда работали и папа, и мама, Мусенковы жили легче.
И не голодали.
Родителям тоже полагались “пайки” с рисом. Мама Тоня готовила из него на целую рабочую неделю плов, во всяком случае, так называлась эта рисовая каша с жареным луком и редкими кусочками тушёнки.
Папа иногда приносил за отворотом шинели горячий хлеб из пекарни.
Это было объедение!
Вера прятала часть своей доли, чтобы отнести девочкам в школу. Иногда она складывала в бумажный “фунтик” немного плова и тоже угощала подруг. Как ей были понятны муки голода!
И она жалела девочек.
Очень жалела.
До того жалела, что однажды, на свой страх и риск, привела нескольких подружек к себе домой, когда родители её были на службе, и угостила пловом.
Остановиться вовремя девочки не смогли. И съели всё, подчистую. Всё, что было приготовлено на несколько дней вперёд.
Ну что тут скажешь...
Однако наступал решающий день.
Объявили:
— После уроков должен состояться “концерт Мусенковых”.
К удивлению учителей, все школьники остались посмотреть. Местным было любопытно, что выдумают эти девочки из далёкого Владивостока. Более того, стали собираться и некоторые родители. Вера дрожала, Лиза — напротив, была спокойна и сосредоточенна. Посмотрев в зал, она прошептала:
— Там мама и папа!
Действительно, оба родителя пришли поддержать выступление дочек... или утешить их в случае обидного провала.
“Цыган”-баянист, тряхнув седыми кудрями, заиграл вступление.
Концерт начался.
Первым номером была “тарантелла”. Лиза солировала.
И опять случилось чудо.
Как заразительно и задорно заплясала Лиза, как она закружилась, ударяя в бубен, как легко перебирала босыми ножками, выплясывая сложную “дорожку”!
Как полетела прямо в зал, остановилась на самом краю и сделала сложный пируэт! А потом вдруг рухнула на одно колено, выгнулась назад, высоко воздев бубен над головой. Так и замерла.
Танец окончился.
Последний аккорд баяна и... всё... тишина.
Зал молчал. Смущённые и озадаченные, зрители переглядывались: что делает сосед?
И вдруг! Зал взорвался рёвом голосов и топаньем ног в такт аплодисментам! Зрители были в восторге!
Зрители хотели ещё!
Лизе пришлось повторить “на бис”.
Объявили второй номер.
Надев на головы “испанские” шапочки с бумажными розами и взяв в руки “кастаньеты”, Лиза и Вера синхронно сплясали простенький, но очень ритмичный “испанский” танец.
Разошедшийся зал хлопал и топал в такт музыке.
Лёд был растоплен. Маленькие актрисы победили косность и предрассудки местных. Дальше концерт летел “на ура”!
Затем Вера читала стихи. Она выучила их с отцом, помнила великое множество. И теперь давала Лизе передохнуть перед завершающим номером.
Ей тоже аплодировали от души.
А потом девочки показали песенно-танцевальную комическую сценку “Повар и поварёнок”.
Лиза-повар учила Веру-поварёнка, как делать пирог с капустой. Девочки пели под баян: “Мы капусту режем, режем, так мы тесто месим, месим”.
Повар учил поварёнка, ленивого и неумелого.
У Веры оказались недюжинные комические способности. Она так достоверно изображала растерянного поварёнка, хватающегося за всякое дело не с той стороны, изумляющегося, что опять ничего не вышло.
Зал просто катался со смеху. Эти измученные и пришибленные невыносимой жизнью, голодающие, без особых надежд на улучшение люди распрямлялись на глазах. Взрослые радовались чуть ли не больше своих детей. Тусклые глаза загорались, вечно сжатые бледные губы изгибались в улыбке.
Девочки Мусенковы победили!
Школьной самодеятельности — быть!
А Тонечка смотрела из зала на своих девочек и вспоминала слова Евлампия Петровича, сказанные тогда в поезде: “Народ у нас особый. Непростой народ наш. Но он хороший, душевный, значить, народ. Кто сам много перестрадал, тот справедливость, значить, выше всего и ценит. Как и сердечное к себе отношение. Доброту, значить”.
Вот как мощно откликнулся местный народ на безыскусное, но искреннее и доброе желание её Веры и Лизы расцветить, разнообразить и хоть капельку, но улучшить жизнь в школе для детей, а значит — и для их родителей! Прав был старик учитель, ах как прав!
— Тось, а всё-таки молодцы у нас дочи! Вот какие! Боевые! Не ударили в грязь лицом!
— Ну всё, Гриш, тише, успокойся, девочек разбудишь. Спи, завтра вставать рано...
— Тонь, а Тонь, да погоди ты спать... А как Лизок ножкой, а? А Верок какой вороной-растрёпой поварёнка изображала... Да не спи ты... погоди. Погоди, а? Тонечка...
Вот и поднялась в школе мощной волной самодеятельность. Какие таланты дремали до поры до времени: чтецы-декламаторы, певцы и — под руководством Лизы — танцоры.
После Нового года решили даже устроить драмкружок.
А один из отцов, молодой морской офицер из военного городка в Знаменском, ставил с ребятами акробатический номер “пирамиду”. Под музыку баяна ребята выбегали на сцену.
“Делай — раз” — становились самые крепкие и большие.
“Делай — два” — на их плечи забирались ребята поменьше.
“Делай — три” — и наверх карабкались малыши.
А самую маленькую девочку подсаживали позади “пирамиды”, и она, раскинув руки, утверждалась на самой вершине, развернув красный советский флаг!
Забурлила школьная жизнь в захолустном городке! На одном голом энтузиазме и назло невзгодам! Забурлила!
48. Советская Гавань. “Киска с бантами”
Каждый день Вера шла в школу с замиранием сердца. Боялась. Но чем больше боялась, тем выше задирала упрямый подбородок в наигранном презрении к опасности.
В чём было дело?
В мальчишках.
Мальчишки из ремесленного невзлюбили её, а может... наоборот? Кто этих совгаваньских мальчишек разберёт!
— Фифа владивостокская! Да она просто... “киска с бантами”! Вот она кто! Вот отлупим, пусть не задаётся!
— Ну, погоди у нас! Дождёшься!
А сами подглядывали из-за угла, когда Верочка проходила мимо. Чёрненькая шапочка, две длинные косы с пышными чёрными бантами из сатина.
Свистели ей вслед, пугали.
Но “Киска с бантами” не пугалась и шла нарочито медленно. С гордым презрением, даже не глянув в их сторону.
Ох как бесила она ремесленных!
Вот цаца!
Неизвестно, чем бы закончилась эта вражда, но пришла зима. Снежная — как всегда в этих краях. Уже не за горами Сихотэ-Алиньского хребта был и Новый год. В школу и в ремесленное горсовет завёз ёлки. И пришла пора Антонине Степановне отдавать в школы свой запас ёлочных украшений, исполненных японскими офицерами. По старой памяти Евлампий Петрович попросил Антонину украсить ёлку в ремесленном:
— Женской рукой — оно вернее будет! Да вы и девочек с собой, значить, берите! Пусть помогут.
Так предложил он наивным тоном, при этом хитро кося глазом на Веру. Антонина Степановна согласилась. Ей это только в радость. Вот и пришли тётя Тоня, Лизка и “Киска с бантами” украшать ёлку у мальчишек. Сказать, что это был шок для мальчишек — ничего не сказать. Но в присутствии Евлампия Петровича и тёти Тони не задерёшься.
Постепенно подростки оттаяли и все перезнакомились. “Киска с бантами” оказалась нормальной девчонкой! Столько ездила, побывала под бомбами! Сколько интересного рассказывала им Вера, пока они вместе украшали ёлку. Договорились с горки вместе сходить покататься.
И покатались.
Теперь за внимание “Киски” мальчишки готовы были петухами биться друг с другом.
Хорошая девчонка оказалась!
Свой парень, а никакая не “киска с бантами”!
49. Советская Гавань. Будни и праздники японских
военнопленных офицеров. Григорий Сергеевич обеспокоен
А жизнь в лагере для военнопленных японских офицеров шла своим чередом.
Они старательно и много работали на заготовках леса, стройках города и в иных местах, откуда приходила разнарядка. Сам “господин Исида” никуда на работы не ходил, его обычным местопребыванием был тот кабинет в больнице. При ней формально он и числился. Но дисциплину в лагере держал железную.
Тоня удивлялась такой готовности японских офицеров исполнять то, что им приказывают. Ей даже казалось, что японцы получают здесь от плодов своего труда несказанное удовольствие. Если посмотреть, как они возводят деревянные “теремки” вокзалов или кладут кирпичи новых зданий на Приморской улице.
И вот что странно — вовсе не помышляют о побеге.
Ежедневно отряды японцев выходили в сопки заготавливать лес для лесозавода. Конвоиров при загототрядах было всего один-два человека, скорее для порядка, чем для пресечения побега, потому что из лагеря пленные японцы не убегали.
И не пытались.
Ни один человек.
Ни разу.
А почему?
И то, что окружающая местность была — море, лес, сопки, болота, только часть ответа.
Существовал свой секрет. Чисто японский.
Лагерь был построен по большей части для офицеров. А по их законам чести — при опасности пленения — офицерам следовало пойти дорогой “правильной смерти”, совершить “сеппуку”.
По самурайскому кодексу “бусидо” предписано всегда лучше смерть, чем позор и презрение. Хотя стоит признать, что прибегали к этому, ужасному на европейский взгляд, действу лишь в крайних случаях: или полное поражение в бою, или вас окружила вражеская армия и собирается взять в плен, где будут пытать и унижать. В таких случаях “харакири” или “сеппуку” даже могут оказаться лучшим вариантом, ведь тогда тебя ждёт лишь быстрая и относительно безболезненная смерть. Но это, как показала практика, только в теории.
В действительности же — под рукой Григория Сергеевича теперь был целый лагерь офицеров. Как он уверил себя — презревших эти средневековые правила. Презревших, но и стыдившихся того.
Как хотите, но казалось Григорию Сергеевичу, что они вовсе не жаждут вернуться в Японию после пребывания в советском плену.
Они же “потеряли лицо” — так рассуждал он. Но беспокоился очень и ловил мельчайшие знаки — как бы чего не случилось в возглавляемом им лагере.
Пока всё было тихо и спокойно.
До назначения Григория Сергеевича в должности исполняющего обязанности начальника лагеря был другой человек. И при нём дела иногда доходили до смешного, что греха таить.
Русские конвоиры, заторопившись назад в лагерь, “забывали” иногда в горах пару десятков японцев — заготовщиков леса. А потом, обнаружив свою промашку, но махнув на это рукой, запирали до утра ворота лагеря. Вот тогда обиженные и возмущённые японцы сами шли к этим воротам и дубасили в них, требуя впустить их в лагерь.
На следующее утро начинался административный скандал.
Японские офицеры “катали кляузу” на нерадивость конвоиров, ненадлежащее исполнение русскими своих обязанностей по содержанию и охране вверенных им военнопленных!
И особо отмечался жалобщиками пропущенный ужин. Ну, это уже вообще форменный конец света!
Однако с приездом Григория Сергеевича подобные инциденты прекратились. Жизнь в лагере пошла-покатилась в своём размеренном и предписанном ритме. Рабочий день японцам был установлен распорядком. А вечера принадлежали им безраздельно.
Они завели свой оркестр и усердно репетировали старинную пьесу в собственном “театре” по типу Кабуки. Нижние чины и обслуживающий японский персонал мастерили костюмы для представления.
— Гриш, а ты не того? Не слишком с ними мягок? С “подопечными” нашими? Ты что, обязан учитывать календарь и их японских праздников тоже? В праздники они что? Не работают? Вот же, на тебе! Оркестр, театр японский завели, ничего себе — трудовой лагерь для военнопленных! Трудятся с театром... и под музыку! Только не в праздник, ни Боже мой!
Так сердилась Тоня.
— Военнопленных офицеров, Тося. Ты не злись, ты пойми, тут не солдатский лагерь, тут не унтер-офицеры, тут потомки самураев у нас. И, знаешь что, я побеседовал кое с кем...
— С “господином Исидой”?
— Нет, он со мной выходит на разговор только по работе и разнарядкам. Да ещё если об истории или литературе — он эти темы любит. Чуть малейший повод, сразу заводит о древности и культуре Ямато. Видел я эту культуру, да и ты видела, тьфу ты, не с фасада, с задов... С задов голых и видели. На Сахалине. Вспомнить противно. А фасад у них такой изящный: самураи, гейши, стишки... А что они творили? В Китае и на Сахалине? Я тебя спрашиваю? Что! Как говорил Суворов? “Вежлив бывает и палач”.
— Гриша, не заводись, уймись ты. Да, я понимаю. Вежливые-вежливые, а сами опыты медицинские на живых китайцах делали, людей миллионами убивали.
Я понимаю, о чём ты. Фашисты они. Вежливые такие фашисты. Вежливо так иголки под ногти загонят или кожу с живого снимут. Но всё равно не заводись. Они теперь под твоей рукой. И с тебя спросят, если что.
— Тось, я не завожусь. Но и ты не путай. Военные преступники содержатся в особых лагерях. У нас только боевые офицеры собраны. И — верно говоришь — с меня спросят. Да... Вот отсюда и пляска... Они тут все самураи. Ты слушай-слушай, мне один человек рассказал. Объяснил, что наш “контингент” между собой себя иногда величает... как это... нечто вроде “живые мёртвые”. Вот и думай, что они выкинут, какую свинью мне подложат...
— Гриш, не смеши меня. Хороши “мёртвые”, скачут, как козлы, вечерами — гогот в бараках! Шутки шутят, как подростки. Друг другу на плечи залезают и скачут самураи наши, прости, Господи. Театр, опять же, этот! Веселятся они от души, Гриш.
— Думаю, оттого они так и скачут, что конец видят. А лагерь наш им — жизненная отсрочка смерти.
— Да не выдумывай ты всякие ужасы. Спи. Отстроят своё и вернутся домой на родину, эту... как сказал? Ямато. И всего дел-то. А ты выдумываешь трагедии какие-то, как у них в пьесе их... Отработают в сытости и тепле и вернутся домой. К себе.
— Кстати, Тось, у них праздник важный скоро. Они нас на своё представление зовут.
— С девочками?
— Ага, всех.
— Вот придёт праздник, там и решим. Всё, спим...
И уснула Тонечка, Антонина Степановна.
А Григорий Сергеевич всё крутил в уме мысли.
Размышлял о странной природе человека.
Вот, казалось бы, хорошие люди “его” японские офицеры. Иной раз ведут себя — ну чисто дети.
А ведь в душе каждого стоят три заслона. И не пробьёшься через них. Нет такого средства.
Первый заслон — самурайский кодекс. Человек — ничто, а честь — всё.
Григорий Сергеевич честно пытался разобраться в путях и законах самурайского “кодекса”. Но выяснил только, что в зависимости от ситуации один и тот же поступок может быть и честью, и бесчестием.
И часто даже узы товарищества не удержат от того, чтобы один “друг” другому голову мечом не снёс! Вот же, за сущую безделицу, за слово, взгляд, за то, что случайно оказался свидетелем возможного, только возможного (!) проявления слабости...
Выходит, дружбы у них в нашем понимании — нет, а есть только иерархия: сложная система подчинения и обязательств.
Странно-то как. И широты душевной нет и в помине.
Как там “господин Исида” стишок процитировал... “Душа, узкая, как полочка”?
Всё верно, так и есть.
Переводчик ему, Григорию Сергеевичу, перевёл значение слов, что, по идее, должны быть нашим обычным “спасибо”: “Мне очень неприятно, что теперь я вам обязан...” Вот что ему переводчик сказал. Вот фраза обыденной вежливости.
Неприятно им быть обязанными, понимаешь! Ну и в чём тут благодарность?
Ладно, традиции и устои у них особые, островные. “Полковник” ему тезисно историю Японии излагал.
...Жили они на своих островах, закуклились маленько. Вроде как на поселении жили — не сбежишь никуда. И стояли над ними удельные князья. Как водится, князья дрались вечно, всё власть делили. А простые самураи, чтобы выжить в этой бесконечной мясорубке, научились без рассуждений полностью подчинять себя своим сюзеренам.
Душу подломили. Внутрь себя ушли. Стали эгоистами и от нормы отошли.
Чуть чего — животы себе вспарывают, чтобы честь соблюсти.
“Гири”! Честь!
А какая честь в фашизме?
Вот и второй заслон.
Если все поголовно — эгоисты и слегка не в себе, то выходит — они целый народ националистов? Фашистов по сути своей, перед которыми другие народы — и не люди, а так, говорящие скоты?
Гитлер тоже подобное внушил немцам.
А император Хирохито — японцам.
Ну, может, и не только он. Как там принято говорить о коллективной ответственности? “Правящие круги”?
И устроили эти “правящие круги” семь кругов ада китайцам. Миллионами их убивали.
Переводчик рассказывал, он до призыва с семьёй жил возле рудников. Так их японские власти эшелонами туда китайцев свозили и в рудник спускали, чтобы работали.
А наверх никого не поднимали. Только кидали туда еду, жалкие подачки. И грозили, если “на-гора” ничего выходить не будет — пустят отравляющие газы.
Сколько там тысяч полегло под землёй?
Переводчик ещё странный стишок прибавил. Ну, не стишок, замечание вроде. Критика тех крайностей, что в японском народе уживаются. Это один их старинный поэт сказал, Кёрай по имени.
На ум Григорию немедленно с поклоном явились строки:
Как же это, друзья?
Человек глядит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч!
Вишнями любуется, но меч под рукой... Вот таковы они, самураи.
А что теперь? Теперь общие оценки количества людей, убитых японцами в Китае, разнятся. Но речь уже идёт о паре десятков миллионов, если не больше...
Григорий поморщился.
Даже и ему, даже и теперь, когда столько прожито, перевидано — вот просто трудно совместить окровавленные горы трупов и этих его сегодняшних “подопечных”, заглядывающих на него, русского белого богатыря, как детишки малые...
“Стоп”, — оборвал себя Григорий.
А Нанкинская резня в 1937 году? 300 тысяч населения тогда японцы под нож пустили. Говорят, убивали безоружных китайцев. И ещё говорят, на улицах города тогда царило изощрённейшее насилие, просто садизм. Мало убить, им поизгаляться ещё было нужно...
Вот где их честь, а? Честь!
Самурайская честь! Это она допускала.
И никто из самураев тогда себе животы не резал. Китайцев они тогда в упоении резали! А у нас на Сахалине?
Григорий Сергеевич завозился на постели, не в силах совладать с собой. Память безжалостно преподносила жуткие картины ночных убийств на границе.
“Тихо, — опять цыкнул на себя Григорий Сергеевич. — А то Тоню разбужу...”
Рассуждал дальше. Итак, кодекс “бусидо” удобно устроен, как на шарнирах — подгибай его, куда князю надо.
Отдельный самурай — немного съехавший эгоист без намёка на благодарность или понимание другого, того, кто рядом. Эдакий человек-меч.
Как “господин Исида” рассказывал? “Правильная смерть” самураю важнее жизни?
Из таких сложилась и вся нация жестоких и бесчувственных эгоистов.
Они не могли не поддержать все идеи Гитлера.
Так. С двумя заслонами разобрались.
А третий заслон — “великая Япония”, чёрт!
Всё вокруг завоевать, местных вырезать и “царить”!
Вот “великая идея”! В ней величия столько же, сколько и чести! Ни грамма нет!
Хорошо, идём дальше.
А если всё пошло наперекосяк? Ресурсов нет, тихоокеанский флот разбит, союзник — Гитлер — тоже разбит и отравился у себя в бункере, крыса, а император и этот, имперский высший военный совет, безоговорочно капитулируют?
А на закуску — извольте бриться!
Император их Хирохито вдруг сообщает своей “высшей нации” сверхчеловеков, что он отрекается даже от своей “божественности”!
Каково?
Вот что это будет в глазах потрясённого потомка самураев?
Крушение это для него.
Полный слом его жизненных принципов.
И жить ему, самураю, после подобного нельзя. Ведь Япония проиграла, рухнула его маниакальная идея в превосходство японской нации, вера в “божественность” императора, идея “великой Японии”.
И ещё до кучи — американский генерал у них становится главным правителем!
Этот, Дуглас Макартур. Распорядитель судеб, чёрт, союзничек... Двух бомб атомных не пожалел, сбросил на мирные и капитулировавшие города...
Что они, самураи, сделали в ответ? Да уж наделали, просто средневековье какое-то!
Бессильное отчаяние...
“Отпрыски хороших семейств” сели на площади Токио перед императорским дворцом. Сели все в белом, с белой повязкой на лбу. Черти же! И по сигналу — тысячи их совершили самоубийство, “сеппуку”. Вся белая площадь в один миг стала красной от крови.
Что же, чужих не щадят, своих — тоже!
Как это они пилотов-камикадзе... А? Выдумали же такое! Лётчики-полётчики в один конец!
Но вот же черти! Пилотов-добровольцев оказалось в три раза больше, чем самолётов...
Спешили умереть за “великую Японию”, что ли?
А массовые самоубийства в их генералитете? Не перенесли капитуляции, понимаешь...
И ещё Григорий Сергеевич думал о том, что ему объяснил “господин Исида”: об обычае ритуального самоубийства “вослед” — “дзюнси”, когда вассалы совершали “сеппуку” после смерти своего сюзерена.
Не придёт ли в голову “набедокурить” и “его” японцам теперь, после самоубийства в Японии их командиров? Его, Григория Сергеевича, по головке за то не погладят, если проглядит.
Ох, провались ты!
Одна “армейская белая косточка” у него в лагере.
Самураи, черти их подери!
50. Советская Гавань. Тонино “лечение”
Вот вечность камня,
Хрупкость жизни тюльпана...
Что же прочнее?
Антонина ходила на работу чёрная от горя и беспокойства.
Не знала, что и предпринять.
Очень высокая влажность и зима — в высшей степени неприятное сочетание. После благодатного климата Украины нелегко вновь им было оказаться на самом краю холодного океана.
Девочки всё время болели.
У Верочки случилось осложнение: страшное воспаление среднего уха.
Она уже почти потеряла слух. Доктор в совгаваньской поликлинике предложил долбить череп.
Вот Тонечка испугалась!
Тут нужно добавить, что Антонина Степановна со стареньким доктором Ёсикавой была в наилучших отношениях. Доктор беззлобно вышучивал её первое появление у него в больничке, звал её теперь — “мадам Молния”.
Тоня смущённо улыбалась в ответ.
Узнав о несчастии с Верочкой, доктор сам предложил свои услуги.
Осмотрел Веру.
Неодобрительно покачав головой, прочёл Антонине целую лекцию о правильном лечении.
— Главное, — терпеливо внушал он Антонине Степановне через переводчика, — не лейте ничего в ухо. Мадам, капать в ухо категорически нельзя. От этого воспаление будет только хуже. Возьмите камфорный спирт, нагрейте его на водяной бане, капните на ватку и аккуратно вложите в ухо. На само же ухо сверху надо навязать тёплый камфорный компресс. Укройте его ватой. Вам понятно, мадам?
Когда через два-три часа спирт испарится, завяжите ухо платочком с сухой ватой на всю ночь. Суть в том, что на воспаление среднего уха лучше всего воздействуют камфорные... эээ... спиртовые пары. К утру обычно всё проходит, вот увидите. Обязательно попробуйте сделать так, мадам Молния.
Антонина и попробовала. А что ей ещё оставалось?
О чудо! К её великой радости, через пару недель всё у Веры прошло.
Бесследно.
И больше не возобновлялось.
Антонина горячо и со слезами приходила благодарить старенького доктора, тот, конфузливо поморщившись, отмахивался, но было видно, что Тонечкина непосредственность ему приятна.
А сырой климат Совгавани просто провоцировал простудные заболевания.
Наконец, сам Григорий Сергеевич заработал воспаление гайморовой пазухи. Домашнему лечению предпочёл он, памятуя историю с утюгом, лечение в амбулатории, где ему делали прогревания электрическим синим светом.
Но от того же доктора Есикавы Тоня прослышала про парафиновое прогревание. Японец рассказывал, что это просто волшебное средство.
Парафина у Тони не было. Но были стеариновые свечи, что, по сути, то же самое. Припомнив, что она услышала про порядок лечения, Тоня решила его несколько модифицировать.
Растопив стеарин в железном ковше, Тоня остудила его в холодной воде. Подцепила застывшую массу ножом, и у неё в руках оказался белый “пирожок”. Тёплый снаружи, но расплавленный внутри.
Обрадовавшись своему умению, Тоня ловко и быстро уложила горячий “пирожок” на носовую пазуху мужа, лежавшего на топчане.
Всё прошло бы на удивление гладко, но в своём усердии поплотнее прижать “пирожок” к больному месту Тоня надавила...
Стеарин, жидкий в середине, протёк огненной лавой!
Сразу залепив Григорию Сергеевичу глаза, ноздри и ушные раковины!
И тут же застыл плотной белой маской.
Перепуганный Григорий Сергеевич, одновременно лишённый зрения, обоняния и слуха, вскочил-взвился на ноги и, сдирая с лица прилипшую стеариновую маску, грозно вопрошал небеса: какого... он, Гриша, в очередной раз пошёл на Тонины уговоры! И что он, Гриша, за... что опять позволил Тосе...
Но скоро всё успокоилось. В конце концов, Тонечка учла свои ошибки и научилась проводить процедуру правильно. Без эксцессов и излишних перегибов... стеаринового “пирожка”.
С гайморитом было покончено.
51. Советская Гавань. Вьюга
Тем временем в свои права вступила настоящая зима. Лёг снег. И пришли
морозы. Сильными их назвать было пока нельзя. Но когда большая влажность в воздухе, то и минус десять — чувствуется. Но в классах было тепло, топили хорошо.
Для потехи детворы на площади взрослые сделали из снега большую горку.
Утро было солнечное, радостное. Мороз отпустил и только ласково пощипывал щёки. Сугробы лежали пуховыми горами. На переменке девочки договорились пойти на новую горку покататься. Так хорошо сегодня!
Но скоро с нависающего над городком хребта Советского, отрога Сихотэ-Алиня, спустилась туча. Под завязку набитая мраком, ветрами и снегом, она завела пургу над улицами и домами Совгавани. В классах потемнело так, что пришлось включить свет. Учителя собрались на совет, отпускать ли детей с занятий. Решили, что нет.
Такая сильная пурга пролетит быстро. Уляжется к концу занятий.
Лиза на уроке смотрела в оконце и думала: “Метёт... не видно ни зги. Не пойдём на горку... Жалко!”
Когда уроки окончились и девочки, с трудом отворив дверь, попытались выйти из школы, то их чуть не сбил с ног сильный ветер. Пурга всё не унималась.
— Девочки, как хотите, я пережду, — заявила Верина соседка по парте.
Она жила довольно далеко. Почти все подхватили:
— Куда идти? Унесёт!
Но Вера и ещё три её одноклассницы, которым было по пути, решили иначе:
— Да что тут сидеть? До ночи? Айда, за руки! Всех вместе не унесёт!
Лизе было страшновато, но она уцепилась за сестру и храбро вышла с ними наружу.
Ой как крутит!
Ничего не видно... где небо, где земля... И дышать трудно, снег и ветер бьют в лицо, пробираются под шубейку.
Ледяные пальцы пурги ухватили Лизу и потащили вверх по улице...
Держи-и-и-и!
Другая девочка схватила Лизу за свободную руку:
— Стой! Куда!
Лизу поставили в серёдку как самую маленькую и лёгкую. Вера и другая крупная девочка стали по краям, удерживают всех.
Они брели по улице прямо на ветер, держась за руки, наклонив головы.
Вьюга, радуясь добыче, приплясывала, бесновалась вокруг них.
Вот ничего не видно, ничего, только снег слепит глаза и чернота... Что там впереди?
Вдруг из этой снеговой круговерти, из белой холодной тьмы прямо перед Лизой вынырнула оскаленная лошадиная голова!
Жёлтые зубы, дико косящий глаз!
Лиза ощутила сильный толчок, руки девочек не выдержали, разжались, и Лиза покатилась прямо под лошадь, под полозья саней...
Как во сне, увидела она круглые огромные копыта, мохнатые ноги, летящие на неё, через неё...
Резкий крик!
— Эй, тпру! Да стой же! Девка, ты что, девка? Да жива ты? Нет? Жива, жива! Слава Тебе, Господи!
Возница размашисто перекрестил грудь.
— Ох, девка, ты в рубашке родилась! Верно моё слово! Да не ревите вы все, говорю! Жива она, живёхонька...
Перепуганный возница вытащил Лизу из-под саней. Ей и вправду повезло. Лошадь не задела её, и сани полозьями хрупкую Лизочку не переехали.
Она цела. Совсем цела. Перепугалась только до икоты.
Возница и сам чуть жив от испуга. Речь его течёт без остановок, перекрывая вой ветра. Так бывает у человека, только что пережившего шок.
— Это тебе, девка, повезло! Мишка, он конь старый, ни в жисть на человека не наступит. Чует...
Девочки все ревут взахлёб. Не могут остановиться.
— Черти вы, девки! Кто в такую вьюгу да по улице! Дуры вы, девки! Всё, хорош реветь. Вот куда вы попёрли? Домо-ой? Ладно. Залезай! Куда вас везти? Свезу, а то ещё чего натворите. Чуть под статью меня не подвели, вороны.
И цыц, не реветь! Лады? Всё, всё уже...
Так, то ругаясь, то ободряя, развёз всех. Последними — Веру и Лизу. Высадил у дома и — пропал в круговерти.
Девочки уговорились родителям не рассказывать. Отец им даст на орехи за глупость! Сказали только, что добрый возница всех развёз по домам.
Григорий Сергеевич был рад, что школа догадалась найти извозчика.
— Вот же люди какие тут хорошие! А ты, Тось, помнишь, боялась... А люди тут какие!
Антонина помалкивала. Она знала своих дочек. Что-то уж очень они примерные сегодня.
“Скрывают что-то. Ладно, потом разберусь”, — решила она.
Шок у Верочки прошёл быстро, она начала скакать и хохотать. А Лизочка пошла спать пораньше.
И опять ей виделись в кошмаре длинные жёлтые зубы, ноздри, чёрные и огромные, как тоннели в горе, заведённый, сверкающий белками бешеный глаз и... затмевающие весь мир копыта! Круглые, роговые, а на них — железные подковы!
И опускались эти копыта с блестящими серебром подковами прямо на неё, били и давили её сани...
— Лиза, что с тобой, ты не заболела? На, попей...
— Ничего, мамочка, это мне приснилось.
На всю жизнь остался с Лизой этот кошмар. Всегда приходил он к ней, когда в жару и беспамятстве металась она на кровати. И всегда опять опускались на неё копыта... копыта... И косил белый с красными прожилками страшный глаз...
52. Советская Гавань. Новый год, 1947
На новый, 1947 год весь лагерь был украшен “творениями” японских умельцев. В бараках японцы поставили ёлки.
Антонина удивлялась: они и Новый год отмечают? Её хороший знакомый, доктор Ёсикава, пояснял, что через пять лет после реставрации Мэйдзи, точнее с 1873 года Япония перешла на григорианский календарь. И отмечает новогоднюю ночь вместе со всеми. А так как праздничных игр и новогодних обычаев у японцев очень много, то традиционный новый год по лунному календарю “поделился” со своим собратом. И теперь они, японцы, весело и творчески отмечают оба: григорианский — “большой” и японский — “маленький” Новый год.
Услышав их разговоры в приёмном покое, к ним вышел и “господин Исида”.
С того памятного дня, как Антонина накричала на него — ну ладно, не накричала, произнесла “отповедь”, — он старался на глаза ей не попадаться.
Тут, однако, не выдержал.
Вышел и сел на своего любимого конька — стал рассказывать об обычаях Ямато. Переводчик сбивался, подыскивая понятные для Тони слова. Но она многое вынесла из этой беседы. Её впечатлило изменившееся лицо Полковника, когда он, полуприкрыв глаза набрякшими, тяжёлыми веками, погрузясь в себя, как бы даже “пел”, рассказывая. Тонечка душой уловила огромную, терзающую и мучающую этого сильного человека тоску по родине.
Его любовь и великую преданность Японии.
Нечто большое и трагическое вдруг повисло в воздухе.
Доктор молчал.
Молчала и Тоня.
Полковник, посмотрев на них, порывисто встал, извинился, что прервал их беседу, и ушёл к себе.
Тоня тоже поблагодарила доктора и ушла.
А дома она делилась с дочерьми тем, что узнала.
— На Новый год они готовят “моти”. Это такие клёцки из пропаренного клейкого риса. В деревянной плошке один человек их смачивает водой, а другой перетирает деревянным молотком. Такие... лепёшечки получаются. Главное даже не есть их, а готовить.
Григорий Сергеевич смеялся:
— Процесс важнее результата, да?
Тоня, подумав, сказала:
— Они же только рисом и живут, как мы — хлебом. Полковник сказал... Не делай такие глаза, пожалуйста, да, я уже лучше к нему отношусь. Мне кажется, я его даже жалею...
— Тось, так что тебе твой Полковник сказал? — улыбался Григорий Сергеевич внезапной смене настроения Тонечки.
— Не мой — твой. Он сказал, что в древние времена всем чиновникам жалование выплачивали этими... коку риса.
Девочки повались на пол от смеха — “коку риса”! Вот мама сказала! “Коку риса” — какая скороговорка!
— Ну это мера веса была. Прекратите вы, — притворно сердилась мама Тоня. — И ещё богатство у них тоже всегда рисом определялось. Золотом, конечно, тоже, но рис главнее! И эти моти...
Но девочки уже скакали по комнате, взявшись за руки, как в польке, и пели:
— Кокуриса, кокуриса! Тётя Мотя, тётя Мотя, подбери свои лохмотья!
Вот что им расскажешь? Да ладно, они так тяжело, так страшно жили, пусть хоть теперь повеселятся. Слава Богу, Мусенковы не голодают, девочки ожили.
— Да погодите вы! Я не досказала ещё! Эти моти складывают попарно и сверху привязывают мандарин, на счастье. Мандарин у них называется “дайдай”, — упавшим голосом произнесла Тоня, предвидя последствия.
А они и не замедлили наступить.
“Дайдай” просто доканало Веру и Лизу. Вера спесиво выступала по комнате, как будто держа мандарин в руках, а Лиза бегала за ней, кланялась по-японски и кричала:
— Дай! Дай!
А Григорий Сергеевич хохотал, на дочерей глядючи. С такими и театра не надо!
Вот тем и закончились попытки Тонечки поделиться новыми знаниями про японский Новый год.
А ей так хотелось открыть дочерям своё удивление, что настоящий японский Новый год приходился не на середину зимы, а на раннюю весну. Когда появляется в Японии первая новая трава и новое солнце так ласково пригревает, рождая новые надежды. И ещё подумалось Тонечке о развесёлом русском празднике — Масленице, справляют его аккурат в японский “старый” и “малый” Новый год... Уж нет ли какого родства между этими рубежами жизни народной?
Как же красиво говорил мрачный “Полковник, господин Исида”. Удивительно слышать такие поэтичные слова от сурового воина.
Ещё он рассказывал о первом “новом письме”, которое все пишут “самому главному человеку” в жизни каждого в пятнадцатый день первого лунного месяца, когда отмечают первое полнолуние нового года.
Пятнадцатый день первого лунного месяца... Боже мой, как красиво и таинственно звучат эти слова, хоть и не очень понятные, но влекущие. Тонечка никогда не слышала о лунном календаре, но её живое воображение нарисовало полную луну, весеннюю ночь и... как там сказали ей? Любование луной... Странно, непривычно звучит. Но какая во всём этом звенит чужедальняя романтика! Тонечка была от природы впечатлительна и мечтательна, но жизнь безжалостной пятой старательно и упорно давила-гасила в ней эти искорки. А тут подпитываемые новым взглядом на старую жизнь всполохи поэзии упрямо затеплились вновь...
...И ведь эти боевые офицеры японской армии все поголовно умеют мастерить такие тонкие вещицы почти что из ничего, из мусора и чепухи, могут строить такие красивые дома из дерева или кирпича, могут изящно выполнить любое рукотворное задание, что им дано. Странные люди...
“Рукодельные”, — снова вспомнила Тонечка слова Евлампия Петровича.
Что ни говори, этот Новый год прошёл весело.
И в лагере тоже.
Выступал оркестр, запускали большого воздушного змея, играли в игры.
Антонина сама-то не видела, она никогда не заходила в жилые помещения лагеря.
Но однажды доктор дружески пригласил её в “приёмный покой”. Привычно прихватив переводчика, она перебежала через двор, недоумевая, зачем он её позвал. В помещении Антонина увидела всё тех же двоих: доктора и “господина Исиду”.
Последний выглядел весьма необычно для себя. Был оживлён.
Тоня заметила и низенький столик, что тогда стоял в “покоях” “господина Исиды”.
А на столике — Тоня не поверила своим глазам — лежало сделанное из бумаги огромное человеческое лицо без черт. Без носа, глаз и рта. Белое и гладкое, как яйцо. При взгляде на него становилось немного не по себе.
После обычных приветствий Антонину через переводчика пригласили принять участие в традиционной новогодней забаве — “фукуварай”.
“Господин Исида”, чуть улыбнувшись, сказал, что он заметил, мадам неприятно глядеть на пустое лицо. И добавил, что “нопэрапон” (людей-оборотней) в Японии представляют как раз так — без лица.
— Давайте вернём этому “оборотню” человеческий облик? — предложил он.
И доктор выложил на стол вырезанные из бумаги две брови, два глаза, нос и рот.
— Это непросто и очень смешно, — сказал “господин Исида”. — Вы так можете играть с детьми у себя дома.
— Что же в этом смешного, — возразила Антонина, чувствуя некоторое раздражение: за кого её принимают?
— О, уверяю Вас, и непросто, и смешно, оттого что играют с завязанными глазами. Вот, посмотрите.
Переводчику завязали глаза и посадили перед столиком. Он брал на ощупь части лица и укладывал на пустой овал. То, что у него выходило, вызвало приступ безудержного смеха у Тонечки. Она с трудом сдерживалась, чтобы не смутить игрока. Лицо на столе кривлялось в шутовской гримасе. Так комично, что и нарочно не придумаешь!
Доктор тоже смеялся, прикрывая рот рукой, а “господин Исида” выглядел довольным. Он сказал что-то переводчику, и тот, поклонившись, снял повязку с глаз. И... остолбенел, глядя на дело рук своих. Он был так растерян, что теперь громко смеялись все.
— Это подарок Вашим детям к празднику, — сказал “господин Исида”. — От всех офицеров нашей... колонии.
Тонечка была рада и польщена внимательностью японских “подопечных”. Она поблагодарила всех такой светлой улыбкой, что ей заулыбались в ответ. Переводчик собрал детали “головоломки” в бумажный пакет и вручил Тоне.
Распрощавшись, Антонина Степановна поспешила домой — порадовать девочек необычной игрой.
Стоя у окна приёмного покоя больнички, “господин Исида” смотрел ей вслед.
После каникул Вера и Лиза носили смешную головоломку в школу. Игра приобрела популярность.
И через несколько лет новое поколение детей продолжало играть в нечто подобное. Только игру слегка переиначили. Приспособили для школьных условий. Тетрадный лист складывали вдоль и одну половину его разрезали на три части так, что части можно было открывать и закрывать, как дверцы. Суть игры была в том, что при “закрытых” двух нижних частях один из игроков рисовал голову. Любую.
От кого угодно.
Потом закрывал верхнюю часть.
Второй игрок, который не знал, от кого голова, раскрывал среднюю часть и рисовал туловище, продлив линии ног на третью часть. Закрывал свою часть и передавал третьему.
Тот, не видя ни головы, ни туловища, но ориентируясь на намётки ног, эти ноги и пририсовывал.
Потом торжественно открывали весь рисунок и — падали со смеху при виде того чудища, что выходило! Эти рисунки одно время были так популярны, что учителям приходилось останавливать урок и делать крепкое “внушение” игрокам. Играли так от Приморья до Урала. Везде, где работали, восстанавливая разрушенную страну военнопленные японцы.
Новогодние праздники миновали. Началась новая четверть. Девочки были рады — вынужденное безделье их тяготило.
Учились Вера и Лиза хорошо. И впервые за шесть лет были счастливы.
Этот маленький домик в одну комнату принёс измученной семье Мусенковых желанную передышку. Советская Гавань стала для них тихой гаванью спокойствия и нормальной семейной жизни. Давала душевное равновесие и возможность накопить силы перед дальнейшими бурями и штормами, что непременны в бушующем океане жизни.
Январь 1947 года был очень холодным, обычная температура зимы минус 15–17 градусов теперь держалась на минус 30. Пробирало до кости. Лучше всех морозы переносили тепло одетые японские офицеры. Истощённые бескормицей жители Совгавани пробегали по делам рысцой. Как говаривал Евлампий Петрович: “Мороз невелик, а стоять не велит”.
Пришёл долгожданный японский “маленький” Новый год. Время выступления “совгаваньского самодеятельного филиала театра Кабуки”. Так Григорий Сергеевич шутливо именовал старания “подопечных” поставить какую-то известную классическую пьесу. С настоящим Кабуки совгаваньскую труппу “артистов” роднило только то, что и там, и тут — в лагере — женские роли исполнялись мужчинами. В настоящем Кабуки — юношами из семей потомственных актёров, а тут... уж кто был. Да ещё то, что актёры выступали в театральных масках.
— Тося, наши “артисты погорелого театра” зовут нас завтра на спектакль. Все пойдём, да?
— Конечно. Девочки уже извелись. “Когда?” да “Когда?”, особенно Лиза. Она как узнала, что там всё больше танцы будут, так места себе не находит.
Назавтра, принарядившись, Мусенковы, во главе с Григорием Сергеевичем, отправились на новогоднее представление.
Вечером дома произошёл следующий обмен мнениями.
— Ты, Лизка, как хочешь, но я больше не пойду! Калачом меня туда не заманишь, всё!
— Вер, ну они же так интересно выступали. Необычно очень. Как тот офицер, ну что несчастную девушку играл, как он приседал, как веером обмахивался, как руками... не махал, а вроде изгибал их, как резиновые. А тот, злодей! У-у-у, какую ему маску соорудили! Страшную! И так же он раскорячивался на сцене... Просто как паук!
Лиза очень похоже показала, как именно раскорячивался в полуприседе “страшный злодей”. Как высоко заносил ногу, прежде чем шагнуть. Внезапно она превратилась в испуганную девушку из пьесы. И изобразила её куда более достоверно, чем давешний “актёр”.
— Вот так надо было.
Вера поразилась, как это Лиза так скоро усвоила приёмы японских “мимов”. Действительно, “девушке” именно так и нужно было двигаться на сцене.
— А что, Лиз, тебе правда понравилось?
— Да.
— И ветры их нюхать тоже понравилось? Да?
Действительно, у японцев, даже у “белой самурайской косточки” не считалось зазорным испортить воздух или рыгнуть. Европейцы, впервые столкнувшиеся с этими допущениями японского этикета, обычно бывали несколько... ммм... шокированы. Как, впрочем, теперь и Мусенковы.
Хотя, следовало признать, артисты постарались. И имели заслуженный успех, не в последнюю очередь обеспеченный работой многочисленных лагерных “костюмеров и декораторов”. Свою лепту внёс и оркестр. Можно было сказать, что Мусенковы сегодня лицезрели плоды полугодового напряжения творческих усилий всего лагеря целиком. И были единственными “сторонними” зрителями. Сами японские офицеры, без сомнения, получили колоссальное удовольствие от спектакля. Но ещё большее — от его подготовки. Однако вряд ли скоро они отважатся на вторую пьесу. Впереди весна и лето — время напряжённого труда. Зимние праздники закончились.
53. Советская Гавань. Мартовский циклон 1947 года
Взошёл март.
Ягнёнком. Чистой и глубокой голубизной неба, высоким и ярким солнышком, заставившим сугробы превратиться в стеклянные холмы. Подтаявшие днём сугробы ночью покрывались крепким ледяным панцирем. На карнизах крыш гроздьями выросли сосулищи. И красиво, и страшно.
В середине марта по Совгавани и окрестностям прошёлся неожиданный циклон.
Утром девочки проснулись — и ничего не поняли. Утро, а темно! Григорий Сергеевич, уже одетый, сильно толкал дверь. Она не открывалась.
— Как будто медведь привалился и не пускает, — пошутил он, хотя в глазах его тлела тревога.
Антонина тоже была одета и на ногах. Суетилась, не знала, чем помочь делу.
Электричества не было.
Вера выскочила из кровати и босиком подбежала к окну — ничего не видно. Стекло было полностью и беспросветно завалено... снегом!
— Нас засыпало, — пожаловалась Тонечка чуть дрожащим голосом. — И всех-всех, наверное, тоже. А дров мало. Только те, что принесли вчера. Дверь не открыть, до поленницы не добраться... Замёрзнем же!
— Тоня, не паникуй. Кто-нибудь да выберется, до нас пророет. Поможет!
— Да, Гриша, наш домик невысокий. А если с крышей завалило, то как они вообще нас найдут? Нас вообще с крышей завалило? Ты как думаешь?
— Я думаю, что если мы проснулись, а не угорели, значит — крышу не засыпало и труба торчит наружу. Или тёплый дым растопил снег... Не знаю я, никогда в такой истории не оказывался. Тось, давай топить сильнее, может, по дыму нас найдут?
— А если все дрова спалим, а никто не придёт? Мы же тут замёрзнем!
— Всё, тихо! Держи себя в руках! Топи, говорю!
Тоня топила печь уже долго. Дров почти не оставалось. Григорий Сергеевич всё пытался открыть дверь. Она немного приоткрылась, но только чуть-чуть, в такую щель не вылезти...
Но вдруг дверь начала быстро поддаваться!
— Тоня, идёт! Сейчас выйду!
От его сильного толчка дверь распахнулась, и Григорий Сергеевич, двигаясь по инерции, вылетел наружу и чуть не упал, но его поддержали.
Вокруг улыбались раскосые жёлтые лица — Мусенковым на помощь пришли японские “подопечные” из их лагеря. А вот прокопанный в снегу проход шириной на одного человека. Вокруг вздымались такие снежные стены, что проход скорее напоминал тоннель.
Григорий Сергеевич удивлённо присвистнул. Вот так навалило! За ночь весь город и окрестности оказались погребёнными под толстым слоем снега! Хорошо, что мело как-то неравномерно. Их дом стоял в гигантском сугробе, но на открытых местах снегу намело меньше.
Японские офицеры вели раскопки вокруг “избушки”, расчистили “верандочку” и поленницу, освобождали окна, чтобы не лопнули стёкла.
Григорий Сергеевич обратил внимание, что на этот раз “спасательными работами” руководил сам “господин Исида”. Он стоял поодаль и бесстрастно, как всегда, наблюдал.
— Ой, снегу-то! Вот это да! Спасибо, что пришли, откопали нас! Что бы мы делали без вас! Спасибо! Спасибо!
Это на пороге показалась взволнованная Тоня, из-за её спины выглядывали Вера и Лиза.
“Полковник” ощутимо расслабился и отвернулся, глядя на “раскопки”.
Особенно много снегу выпало в ту ночь на военный городок в посёлке Знаменском, что в пяти километрах от Совгавани. Там дома занесло на два этажа в высоту. Чтобы не замёрзнуть, военнослужащие валили в городке сосны и распускали на дрова. Спилили почти все. Не замерзать же! И стала жителям Знаменского видна Совгавань, рухнула высокая вечнозелёная завеса, закрывающая обзор.
В окрестностях и в городе люди с трудом пробивались к своим сараям с дровами, к уличным “удобствам”. Рыли тоннели под снегом, освобождали двери домов.
Лагерь тоже расчистили только слегка, чтобы сделать самые необходимые проходы.
Григорий Сергеевич быстро откомандировал своих “подопечных”, теперь и спасителей, на помощь городку. Тепло одетые японцы оказались незаменимой подмогой заваленному холодной белой напастью городу.
Столько снега убрать — не в человеческих силах! И вставали-высились сугробы, как сопки, как горные хребты. Город превратился в снеговой макет Сихотэ-Алиня.
Занятий в школе некоторое время не было.
Знакомые из военного городка рассказывали Мусенковым, что попали в этот ужасный циклон в пути — ехали по железной дороге! Дорогу от “Пивани до Вани” накрыло такими заносами, что паровоз пробивался трое суток вместо положенных 25 часов.
— Только отъехали от Пивани, оно ка-ак закрутит! Сначала ехали, ничего, а в горах снегу столько! Ни черта не видно! Рельсов не видно, одни сугробы в несколько метров высотой! Проводники говорят — надо выходить, а то погибнем тут, в горах. Ну мы все вышли пробивать путь локомотиву. Только пробились сквозь один занос — опять выходи! А впереди — ещё больший! Едем-едем, опять сугроб! Опять все расчищают! И так трое суток. Намаялись... За работу нам дали по 400 граммов хлеба и селёдку. А то бы с голодухи померли.
Мусенковы качали головами, Тоня сочувственно ахала. Представляла себе эту дорогу в горах. Да ещё и в снежных заносах!
В положенный срок припекло наконец весеннее солнышко.
Вот когда вся округа “поплыла”!
Вот когда Мусенковы оценили по достоинству высокие деревянные мостки на улицах!
Без них в городе жизнь бы стала намертво. Везде, куда ни глянь — топкая грязь и бурные потоки ледяной талой воды. С мостков мальчишки пускали кораблики. Щепочки, чуть обструганные ножом. Но сколько ребятам удовольствия — смотреть, путаясь под ногами спешащих по делам взрослых, как быстрое течение мчит через снежные заторы, под ледяными “мостами” и “тоннелями”, как крутит оно кораблик из коры, несёт его к морю. И представляют мальчишки, что доберётся их судёнышко до моря и станет настоящим кораблём. С капитаном и матросами...
— Лево руля! — кричат мальчишки.
А прохожие беззлобно ругаются на них. Детство, оно было у каждого.
Наконец, снег сошёл полностью. По Совгавани и в военном городке белели некрасивые, как обкусанные, свежие высокие пни срубленных сосен, которыми заваленные снегом жители отапливались после циклона.
Все теперь ждали тепла. Только и разговоров было что о ягодах, грибах, охоте...
54. Советская Гавань. Холодное лето. Семья “господина Исиды”
Вот и пришло мокрое совгаваньское лето.
В школе — каникулы.
Девочки принесли хорошие аттестаты.
Теперь они проводили дни возле своего домика. Помогали на огородике отцу, который загорелся вырастить помидоры. Нашёл где-то семян, и теперь у них возле веранды торчат чахлые кустики. Никто толком не умеет за ними ухаживать, но суеты развели много. Помидорам тут явно холодно. И температура на улице скачет. То жара под тридцать, то не выше плюс пятнадцати градусов. И всё время дожди.
— Что это за лето такое? — со слезами на глазах вопрошали девочки, вспоминая с тоской роскошные жаркие дни в Нежине и больше, конечно, в Каменец-Подольском.
А вишни?
А летние груши и яблоки?
А те же помидоры? Огромные и сладкие. Не то что у них вырастает тут на огородике. Зелёные сливы какие-то.
Морковка была хорошая, лук — тоже. Тоня посадила и картофель. Но участок был мал, и картофельные грядки скорее напоминали клумбу с красивыми белыми шапками цветов. Интересно, но Вера впервые оценила аромат цветов картофеля.
— Лизка, ты понюхай, они же духами пахнут, как та дама в Ворошилове, помнишь, я тебе рассказывала, вот так же и пахнут!
Лиза смеялась, убегала: что за глупости — нюхать картофель!
Иногда выбирались в лес. Всё вокруг усыпано цветами: ирисы, белые и синие колокольчики, клевер, жёлтые “собачки”, дикие пионы, огромные ромашки. Вместе с мамой собирали ягоды, было много белых грибов. Местные показали им болота с клюквой, морошкой. Но далеко ходить одни девочки не отваживались. Да и мама не велела.
А Григорий Сергеевич вечно был занят.
Хлопотное дело — руководить лагерем военнопленных, даже и таких дисциплинированных.
Даже и взнузданных твёрдой рукой “Полковника, господина Исиды”.
Вот и август 1947 года. После запоздалой весны лето было ещё в разгаре. В дальневосточном разгаре, конечно. Зато дожди перестали! Но помидоры краснеть и не думали.
— Ничего, — говаривал папа Гриша, — мы их на зиму такими положим, они к зиме дозреют. Зимой у нас будут свои помидоры!
— Сливы у нас будут, — шептала Вера Лизе. — Зелёные сливы.
Та, прикрываясь ладошкой, смеялась.
Летом старенький доктор Ёсикава неожиданно стал учить русские слова. Он рисовал кистью чудесные смешные рисунки и просил Антонину Степановну называть, что это.
Сначала доктор написал дату. Тоня подумала.
— Сегодня?
— Си-ва-дня...
— Семья, — медленно и чётко произносит Тоня, с удивлением и удовольствием наблюдая, что под ударами кисти доктора на листе бумаги оживает изображение обнявшихся мужчины, женщины и ребёнка.
— Сем-ма, — старательно выговаривает маленький старичок.
— Дом, — говорит Тоня, увлекаясь игрой.
На бумаге около семьи возник японский “теремок” с загнутыми кверху углами крыши.
— Дом.
Вот стараниями доктора Ёсикавы мужчина на рисунке дарит сердце смущённой, но улыбающейся женщине.
— Любовь?
— Лубов...
Следующая картинка была неожиданной. Доктор нарисовал толстого весёлого зайца, скачущего по листу куда-то. Потом перечеркнул его и нарисовал лежащее безжизненное тельце с трогательно раскинутыми ушами. А рядом — человек с луком и стрелами. Тоню передёрнуло.
— Убил?
— Юби-ил...
— Странно. Что это на него нашло? — допытывалась Тоня у Григория Сергеевича.
— Он что, хочет у нас в городской больнице приём вести? И почему с переводчиком не учит?
Григорий Сергеевич пожимал плечами. Он не знал.
Суббота, девятое августа.
Антонина работает, как и всегда. Завтра — воскресенье, обещала девочкам сходить погулять. Но столько дел... Постирать и приготовить на неделю.
Ничего, всё успеет. Сегодня уйдёт пораньше.
Ближе к вечеру, когда Тоня уже собралась домой, к ней зашёл переводчик с приглашением заглянуть к доктору Ёсикаве. Недоумевая, что за срочность такая, она пошла в приёмный покой. Привычно скинув туфельки у двери и оставшись в белых носочках, прошла в приёмный покой.
Её приветствовали двое. Доктор и “господин Исида”. Намётанным глазом Тоня определила, что доктор смущён сверх меры, а тот, второй — чернее ночи. Тоню просто с головой захлестнула волна тягучего ужаса. Что случилось?
Повинуясь мановению руки “Полковника”, переводчик выскользнул на улицу. “Господин Исида” жестом предложил Тоне подойти к хорошо ей уже знакомому маленькому столику.
Доктор мягко опустился на пол перед столиком. Сел в традиционной японской позе на пятки. “Полковник” как-то судорожно расстегнул пуговицу нагрудного кармана френча и вытащил... небольшую истрёпанную по краям фотографическую карточку. Кинул на неё зовущий, тоскливый взгляд. Положил на стол и отошёл к окну. Встал там спиной к ним, ссутулившись, заложив руки за спину.
Тоня разглядывала карточку.
На фоне цветущего дерева стояли трое. Впереди — “господин Исида”. Тоня с трудом узнала его в этом исполненном радости и довольства человеке. Чуть позади него стояла красивая японка в изящном европейском костюме и шляпе. Длинные волосы женщины были забраны в низкий пучок на шее. Рядом улыбалась хорошенькая девочка в кимоно. В руках она держала крохотный зонтик. От фотографии веяло семейным уютом.
Доктор ревниво переводил взгляд с фото на Тоню. Ждал, чтобы оценила. Потом достал стопку своих картинок, глянул.
— Сем-ма.
Тоня кивнула, что поняла.
— Лубов.
Опять кивок.
Тоня осознала, что приближается что-то невыносимо ужасное, ей захотелось оставить эту комнату со сгущающейся тяжёлой атмосферой, выскочить на воздух... Но она слушала дальше.
— Нагасаки, дом.
Тоня не хотела знать. Защищаясь от неизбежного, она выставила вперёд обе ладони, качала головой, но доктор гнул своё.
— Юби-ил...
— Их убили... — Голос Тони задрожал.
Она больше не могла выносить того, что тут происходило.
— Си-ва-дня...
— Сегодня?
Доктор положил поверх стопки знакомых картинок новую. На ней кудрявился похожий на гриб... взрыв?
Только тут Тоня поняла.
— Ядерная бомба, — помертвелыми губами молвила она.
Сегодня было 9 августа 1947 года. Два года назад, 9 августа 1945 года мир ужаснулся второй атомной бомбардировке японского города. Теперь — Нагасаки.
Тоня вскинула глаза на фигуру у окна. Ей показалось, что плечи мужчины вздрагивают от сдерживаемых рыданий.
Это был предел. Умоляюще сложив руки перед собой, с побелевшим лицом и слезами на глазах Тоня поклонилась доктору и выскочила из комнаты.
Домой, домой!
Доктор смотрел ей вослед. Теперь она всё знает. Как правильно она всё поняла, какое горе, ужас и сочувствие отразились на её лице. Как тонко она поступила, не сказав ничего. Любое слово звучало бы фальшью. Такая трагедия!
Тонечка еле дождалась прихода Григория Сергеевича.
— Гриша, Гриша, мне всё рассказали! У “Полковника” американцы сожгли всю семью в Нагасаки! Атомной бомбой! Сегодня у него день траура по погибшим. Вот почему он тебе помогает. Он сделал выбор между американцами и русскими.
Тоню просто трясло.
— Тося, Тося, ну же, успокойся!
Григорий Сергеевич обнял жену. Она прильнула к нему, ища утешения от всех ужасов и мерзостей этого страшного и жестокого мира.
— Гриша, милый, мне его так жаль, так жаль... Ох, Гриша. Как подумаешь, что он испытал, когда узнал, что жена и дочь... Что весь город за мгновение... — всхлипнула она.
— Тоня, это война. Поганая война. Вот сидела бы Япония тихо, не было бы и этих смертей. Сами на рожон, черти мелкие, полезли! Ну, не плачь, не плачь, родная моя, дорогая, Тонечка... Мы вместе, мы всё прошли и пройдём всё, что нам выпадет. Мы будем жить. Мы всегда будем вместе.
— Вместе. Всегда. Обещай мне!
— Я обещаю.
— Гриша, он её фотокарточку в кармане носит, прямо на сердце, как и ты носил! — прошептала Тоня своё сокровенное и опять разрыдалась. — Как и ты...
Гриша молча крепко-крепко прижимал Тонечку к себе. Никто не сможет отнять её у него!
Никогда!
Летняя ночь августа 1947 года. Все спят. Тонечка сидит у окна и смотрит в звёздное небо. Сорвалась и упала звезда. Тоня успела загадать. Их с Гришей бесконечно долгую любовь.
Жизнь.
Детей и внуков.
Хватит ли на всё это одной звёздочки?
55. Советская Гавань. Терзания “Полковника”
Горы дальние,
заставы миновал,
Прежде чем явился я сюда...
О тоска, когда не можешь больше
Встретиться с любимой никогда!..
Накатоми Якамори, VIII век
А в лагере “Полковник, господин Исида” боролся с чёрными демонами отчаяния. Он в бесконечный раз переживал тот август 1945-го. Тот страшный миг девятого числа, когда он вёл совещание. Вестовой вбежал и рухнул перед ним на колени, подавая телеграмму. Ту самую, в которой говорилось о гибели Нагасаки. О том, что его Сатико сгорела в атомном аду вместе с Эттян. Что в тот миг с ними вместе унеслись ввысь души восьмидесяти тысяч человек!
Тогда, в тот момент нечеловеческим усилием воли он удержал лицо. Он долго смотрел на телеграмму, потом жестом отослал вестового. И сумел продолжить совет. Страшное известие о гибели Нагасаки он довёл до сведения присутствующих только в самом конце. Он помнил их одеревеневшие лица, тот ужас, что тогда укрыл всех ядовитыми крылами. Когда они ушли, он долго сидел один, закрыв лицо руками.
Мыслей не было.
Он ощущал, что в душе его разверзлась чёрная и бездонная пропасть, и туда скатываются, осыпаются жалкие осколки его никчёмной жизни. Только гнев, на гребне которого пеной сверкала безжалостная ярость, удержал его в тот миг.
Они отомстят!
Он не знал — как, но крепко верил — его великая Родина, благословенная Ямато, соберёт волю в железный кулак! Несмотря на оглушительное поражение флотских в юго-западной части Тихого океана, оставались ещё они — армейские! Их огромная Квантунская группировка! Ещё большая Экспедиционная армия в Китае!
Но пятнадцатого числа того же проклятого месяца августа ему принесли приказ. Приказ имперского генерального штаба о безоговорочной капитуляции вооружённых сил Японии. Слова приказа, отданного в том числе и ему лично, впечатались в мозг. Горели там столбиками огненных иероглифов.
“Старшие японские командиры и все наземные, морские, воздушные и вспомогательные силы внутри Маньчжурии, Кореи севернее 38°50’ северной широты, Карафуто и на Курильских островах должны сдаться Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке”.
Сдаться!
Ему! Теперь!
Чёрные молнии сверкали в его глазах, когда он рвал этот приказ. Он проклял и имперский генеральный штаб, и лукавого Коити Кодо, советчика отрёкшегося “тэнно хэйка” (Его Величества Императора) Хирохито! Всех, предавших идею Великой Японии! Давая выход своей бесконечной ярости и отчаянию, против приказа — он продолжал сражения. Его батальоны бились! И были повержены.
Сам он получил тяжёлую контузию. Почти умер.
Пришёл в себя в русском плену.
К его великому несчастью, его выходил этот презренный старик Ёсикава, врач.
Как он был тогда взбешён! Как смел этот старик такое совершить? Вернуть к ненужной ему жизни!
Сначала он был готов немедленно следовать “пути чести” — “гири”. Но пришла мысль, что он — последняя веточка на засохшем дереве некогда могучего и знатного рода. Не пристало ему пропасть в дебрях этой чужой страны, чтобы собаки грызли его кости.
И из уважения к предкам и к семейному достоинству он задержался в этом мире.
Чтобы вынести невыносимое и стерпеть нестерпимое, как сказал, обратившись к японцам, “тэнно хэйка” Хирохито...
Его боевые офицеры согласились с ним, как им следует поступить. Он был уверен в них. Хотя их молодость и берёт своё, хотя и резвятся они, как дети.
Пусть.
Пока.
А когда придёт час... Он вспомнил “дзисэй” — “песню смерти” одного из пилотов-камикадзе.
И упадем мы,
И обратимся в пепел,
Не успев расцвести,
Подобно цветам чёрной сакуры.
Масафуми Орима. Его послание на белом траурном шёлке стало широко известно. Но пилоты всё равно рвались в небо! Чтобы уподобиться падающим звёздам.
А сам он?
Он уже мёртв. Умер в том августе 1945 года. Тело его пока ещё отдавало приказы, двигалось, но душа покинула земные пределы. Всё, что он любил, чему жил, перед чем преклонялся, погибло. Остались только могилы предков.
Сатико ... В пятнадцатый день восьмого месяца по лунному календарю, в память о Сатико, любившей этот древний праздник любования луной, он не спал. Одиноко глядел на луну. Губы его шевелились, беззвучно произнося такие уместные здесь строчки Сато Норикие, великого Сайгё.
Летней порою
Луну пятнадцатой ночи
Здесь не увидишь.
Гонят гнуса дымом костра
От хижины, вросшей в землю.
Вспоминал, как Сатико радовалась, ставила под лучи лунного света веточки серебристого мисканта. Как Эттян, лукаво оглядываясь, не смотрят ли на неё, утаскивала со стола цукими-данго, один из рисовых колобков.
Дышать становилось всё труднее, воспоминания задавили грудь. В который раз пришли соблазнительные мысли.
Нет, не здесь! Тело его не ляжет в чуждую ему землю.
...А через малое время в его жизнь ворвалась, как летняя гроза, как цветение сакуры, как великолепие гроздьев глицинии, эта русская женщина — Тони-сан!
Когда она влетела в его личные “покои”, он испытал шок. На один безумный миг он обманулся, решил, что это вернулась его Сатико. Нежная, порывистая. Что её призрак, призываемый его тоской, явился к нему!
Потребовалось время, чтобы он опомнился. И снизошло понимание, что это не привидение, это — живая русская женщина, даже и не похожая лицом на Сатико.
Но всё же что-то было в Тони-сан, роднящее её с его любимой, испарившейся в ядерном взрыве. В присутствии Тони-сан он с удивлением осознавал: его Сатико каким-то образом здесь, рядом, полная жизни, осязаемая и манящая.
Он дал себе волю.
Отпустил чувства на свободу.
И — заблудился в сновидениях. Перепутал сон и явь. Правду и ложь.
Но нет.
Теперь — всё. Это только бесплотные и жестокие миражи.
Его Сатико улетела белым облачком, и нет возврата.
Последняя любовь оставлена ему — древняя земля Ямато! И он упокоится в ней.
“Господин Исида”, опять задыхаясь, схватился рукой за грудь. В голове звенело.
Как можно вынести эту боль и остаться жить?
В понедельник Тоня узнала, что “Полковник” заболел. Сказались последствия тяжёлой контузии. Тоня послала переводчика к доктору Ёсикаве справиться о здоровье больного. Спросить, можно ли навестить его в больничке. Доктор разрешил ей зайти на минуту, не больше — больной очень плох.
Тоня сорвала большие белые колокольчики и поставила их в стакан. Пусть “господин Исида” поймёт, что у него есть друзья. Когда доктор Ёсикава увидел Тоню с белыми цветами в руках, он вытаращил глаза, будто увидел привидение, но провёл её в палату.
“Господин Исида” лежал на постели, как труп. Синеватое лицо, закрытые глаза, безжизненные руки... Тоне показалось, что он и не дышит. Она поставила стакан с цветами на табурет возле изголовья. Постояла минутку и, повинуясь жесту доктора Ёсикавы, ушла.
Она не увидела, как из-под набрякших тяжёлых век “Полковника” скатилась одинокая слеза.
А доктор Ёсикава думал, откуда Тони-сан знать, что белый цвет — символ траура... Это рука судьбы.
Лето кончилось.
Скоро в школу. Антонина подготовила девочек, насколько тогда было возможно. Она радовалась тому, что дочки хорошо выглядят. Отдохнули и выправились. Может быть, кому-нибудь иному совгаваньская скука и рутина сонной жизни Мусенковых и показалась бы невыносимой, но не им. Они столько перенесли, так бедствовали, так помотала их жизнь, так испытывала война, что эту поразительную тишину жизни они благословляли.
Даже девочки отсыпались, как “барсуки в норе”, шутила мама Тоня.
Впервые после 22 июня 1941 года тёплый, солнечный кокон благополучия надёжно окутывал истерзанную семью. Блаженство спокойствия ласковым облачком спустилось на них. Было так хорошо, что Тоне иногда становилось страшновато: уж не затишье ли это перед новой и страшной бурей?
“Полковник” всё болел и лежал в палате. Кроме него, больных там не было. Все недомогания и болезни “контингента” доктор теперь лечил амбулаторно.
Весь подоконник в домике Мусенковых оказался заставлен удивительными фигурками, сложенными из листов записной книжки доктора Ёсикавы. Так вышло, что Лизочка, услышав разговор родителей о болезни “господина Исиды”, по-пионерски потребовала у отца разрешения — “навестить больного”. Отец позволил ей. Лиза набрала стакан морошки и бодро отправилась. Вернулась она с удивительным подарком — собачкой, искусно сложенной из одного листа бумаги.
— Верка, он лежал в палате, а потом, как меня увидел, крикнул так сердито на доктора, тот ему и принёс бумагу. Вот смотри, что он мне сложил! Прямо как фокусник — раз, два, три! Смотри!
Лиза совала собачку родителям, требовала восхищения.
Так завязалась эта мимолётная и странная дружба.
Время от времени Лиза ходила навещать больного. Приносила то клюкву, то белый гриб, всё, что можно было ей отыскать, не уходя далеко. Приносила и морковку с огорода. Только не эти “зелёные сливы”, как Вера упорно звала папины помидоры. Помидоры слышали Верочкины слова, им становилось стыдно, и они заливались робким румянцем.
— Но больному такое не понесёшь, — рассуждала Лиза.
Когда нести было нечего, она ему пела. Когда в первый раз Лиза встала, как на сцене, и запела песню про казачку, что певала во Владивостоке её бабушка Катя, то...
— “Господин Исида” даже сел на кровати! И глаза вытаращил! Вот так! А потом он мне хлопал! Только доктор Ёсикава сразу прибежал и меня... попросил уйти. Прямо за руку и попросил! А что такого? Я же просто пела.
Каждый раз, посетив больного, Лиза приносила домой новую удивительно сложенную бумажную фигурку.
Сколько их: собачка, журавлик, девочка, цветок. Вот странное животное — лиса или барсук — не разобрать, но красиво!
— Он на табурет кладёт листок и так быстро-быстро вертит его, крутит, а сам складывает, ногтём приглаживает складки, сворачивает, разворачивает, я даже не понимаю, как он делает, так скоро у него выходит!
Однажды Григорий Сергеевич сказал, что больной поправился и больше “по-пионерски” навещать его не нужно. Лиза пригорюнилась. “Полковник” ей нравился. И доктор Ёсикава тоже.
И вообще, Лизе нравился весь белый свет!
Прошёл сентябрь, за ним — тёплый и ясный октябрь.
56. Советская Гавань. Репатриация японских офицеров.
Земле на грудь
Камнем ненависть давит.
Но она не всесильна.
Глядя на горы вокруг, особенно и не замечаешь, лето теперь или, например, осень.
— Пихты, сосны — они же вечнозелёные! Тут даже берёз нет, — так жаловалась Лиза. — Вечно зелёный, но зимой белый — это что? — загадывала она свою любимую, придуманную ею загадку, требуя ответа, что это Сихотэ-Алинь.
Наступало время туманов и осенних штормов.
Заштормило и в жизни Мусенковых.
Сначала на горизонте показалось маленькое облачко, казалось бы, ничего не предвещающее.
В один из последних дней октября Григорий Сергеевич пришёл мрачный.
Он отмалчивался до ночи. А когда девочки уснули, тихо сказал Тонечке:
— Всё. “Наших” японцев репатриируют. Мне прислали приказ сворачивать лагерь и готовить контингент к отбытию в Японию. Их отправляют сначала в транзитный лагерь военнопленных. Туда за ними придёт американский корабль.
А я сдаю дела. Теперь это ответственность начальника управления лагерей по нашему району. Тебе тоже скоро сдавать дела. Готовься.
— Как? Так скоро?
— Это тебе кажется скоро. А им — это долго.
— Но, Гриша, ты же сам мне говорил, что их так хорошо содержат, чтобы они хорошо работали и восстанавливали наше хозяйство! Чтобы не жаловались. Не обижались на нас. Да “наши” и не обижаются... Работают...
— Тоня, по соглашению между нашей страной и американцами мы должны в год отправлять в Японию 50 тысяч человек. Наш лагерь попал в список репатриации 1947 года.
— Гриша, куда же их? В Ванино?
— Ну что ты, Тонь. Их отправляют в транзитный лагерь, что в порту Находка. Тот, рядом с Владивостоком. Поедут по железной дороге от Ванино до Владивостока. Там их и ждёт корабль. А мы ещё на неделю-другую задержимся. Нужно сдать дела. Ты проследи, чтобы всё было у них в порядке. Одежда, питание и полный комплект медикаментов. Здесь мы за это головой отвечаем.
— А когда они поедут?
Григорий Степанович сказал — когда. Это было скоро. В ноябре.
У Тони странно “ухнуло” сердце. Опять уезжать, опять новые города... Неизвестность тяготила.
И она спросила наболевшее:
— А потом мы — куда?
— Мне выдано предписание — Владивосток. Надолго? Не знаю. Завтра будет объявлено по лагерю. Начнутся сборы. Работы много. Готовься.
Назавтра лагерь кипел. Шли сборы. Антонина Степановна была сразу в ста местах одновременно. Обеспечивала, выдавала под роспись, договаривалась. Она была рада за “подопечных”. А о себе грустить некогда было.
Да и где наша не пропадала!
Уладится всё как-нибудь.
— Видишь, Гриша, — говорила она мужу дома, — всё хорошо, и я оказалась права. Скоро их отправят домой. А ты на какой-то ужас намекал.
Григорий Сергеевич отмалчивался. Он был очень рад, что ответственность за транспортировку, обеспечение и качество вагонов уже не его “епархия”. Многочисленные комиссии — это головная боль начальников управления лагерей МВД. И им отвечать за жизнь и здоровье репатриантов в процессе переезда.
Удивительно, но “свернуть” лагерь удалось в срок.
И настал тот час, когда колонна военнопленных японских офицеров выстроилась на лагерном плацу в последний раз.
По желанию “отбывающих” прошло даже нечто вроде “митинга”. С одной стороны, собрались все русские работники лагеря: охрана, бухгалтерия, представители городской администрации. Впереди стоял Григорий Сергеевич. Сбоку скромно примостилась и Тоня.
Напротив них разливалось море раскосых жёлтых лиц. По большей части — молодых. Глаза сверкали. И не только радостью отбытия на родину. Туманились слезой.
Странно это показалось Антонине, но многие плакали, не скрываясь, как будто им было жаль покидать эти места, этих странных, но сочувствующих русских.
Вперёд вышел “Полковник, господин Исида”. Он произнёс “благодарственную” прощальную речь. Потом подошёл к Григорию Сергеевичу, и они оба поклонились друг другу, прижав руки по бокам. Рукопожатия не было.
Потом оркестр заиграл, и колонна тронулась в долгий путь.
Пока — до железнодорожной станции Советская Гавань-Сортировочная. А там — в поезде до Владивостока...
И — домой!
Антонина проводила взглядом уходящие ряды ушанок, телогреек. Ботинки лихо отбивали шаг.
В добрый путь!
Лагерь опустел.
Как оно всегда случается, возникло странное чувство полной опустошённости. Когда бродишь бесцельно, голова звенит лёгкой грустью, а ноги живут своей жизнью и несут тебя, куда глаза даже и не глядят.
Неожиданно Тоня увидела, что стоит перед знакомой дверью.
Опустевшая больничка...
Толкнула дверь, вошла в приёмный покой.
В середине покоя стоял тот маленький столик.
А на столике лежал красиво упакованный маленький свёрток. Рядом стояла сложенная из бумаги фигурка зайца.
Странно ухнуло сердце...Тоня подошла к столику. На свёртке коряво было выведено её имя — “Тони-сан”.
Она аккуратно развернула и... от неожиданности выронила из рук прямо на стол... фотокарточку.
На ней улыбалась счастливая семья “Полковника, господина Исиды”!
— Гриша, зачем это он? Это же его сокровище! Как он мог!
Григорий Сергеевич хмуро глянул на фотографию.
— Это плохой знак, Тоня. Хорошо, что теперь это не моя ответственность.
— Ты о чём? Не пугай меня...
— Подождём известий.
Тоня спрятала фотокарточку подальше. Было больно смотреть на неё и знать, какой страшной смертью умерли эта красивая женщина и девочка с длинной, очаровательно подстриженной чёлкой.
Это сделали американцы. Не должны были, не было им никакой нужды заставлять два японских города гореть в атомном огне.
Но бомбы улетели вниз... на ничего не подозревающие города.
Гриша говорил, что один из самолётов носил имя матери пилота, а на сброшенной бомбе было написано “малыш”.
И вот сгорели, испарились и эта японка, и её прелестная малышка...
А теперь американский корабль повезёт их мужа и отца на родину.
Сколько цинизма в жизни!
57. Советская Гавань. Дорогой “самурайской чести”
Так вот почему
Сакуры чёрным цвели
Этой весною...
В опустевшем лагере пока оставалась и работала бухгалтерия, охрана исполняла положенное, охраняла имущество и строения. Наконец Григорий Сергеевич передал дела начальнику управления лагерями, а Антонина Степановна отчиталась перед комиссией. Составили приёмо-сдаточный акт.
Билеты были забронированы, дата отъезда назначена.
Накануне друзья приходили попрощаться. К Лизе и Вере набежал целый “полк” подружек. Стесняясь и смущаясь, пришли проводить Веру огорчённые “ремесленные”. Дети потоптались-потоптались, повздыхали, а потом затеяли догонялки на дворе, играли и в ручеёк. Вера на месте не стояла, мальчишки старались выбрать её в пару. Было так весело, но грустно...
А в доме, где собрались взрослые, Евлампий Петрович сыпал свои “значить” и всё напутствовал отъезжающих. Знакомые из военного городка шумно прощались, просили писать.
Лиза уже бережно упаковала свои бумажные фигурки. И тот последний дар её друга “господина Исиды” — зайца. Лизе сказали, что это называется “оригами”. Теперь она всё твердила это слово, чтобы не забыть.
Вещи были уже собраны, и дом стоял чистый и какой-то отстранённо-чужой, будто столько времени и не был он их тихой гаванью, не обнимал их, не согревал, не утешал в печалях, не веселился вместе с ними на радостях.
Ждали выделенную легковушку, чтобы доехать до железнодорожной станции. Сидели, как говорится, “на чемоданах”.
Но прямо перед отъездом Григория Сергеевича зачем-то опять вызвали в город в Управление лагерями.
Вернулся он сам не свой.
— Что, Гриша? — кинулась к нему Тоня.
— То, чего я и боялся. Пришло известие из Владивостока, что некоторые японские офицеры, в том числе многие из нашего лагеря, покончили жизнь самоубийством, когда поднялись на борт американского корабля. Прямо на палубе взрезали себе живот. Говорят, столько крови стекало с борта.
— А “Полковник”? — пролепетала Тоня, бледнея.
— Он будто бы знак дал. И показал пример. Я же этого боялся! Мне об этом говорили! Я всех предупредил, чтобы не допустили! Но всё произошло уже не в нашей юрисдикции — на борту американского корабля. Что наши могли с этим поделать?
Тоня зажала рот обеими руками, чтобы не закричать от ужаса. Их с Гришей “подопечные”, японские офицеры, которые так веселились в Новый год, которые с таким удовольствием клеили ёлочные игрушки и представляли “театр” — эти люди убили себя! Да что же это! Зачем? Они же ехали домой! Домой из плена!
— Зачем? Зачем, Гриша? — задохнулась Тоня...
— Это их самурайская честь. Они должны были это сделать, чтобы не “потерять лицо”. У нас все были офицеры из “хороших семейств” с историей и традициями. Во-первых, они попали в плен. Во-вторых, они сотрудничали с нами. В-третьих, думаю, потому, что корабль был американский. США разбомбили два города, сожгли и заразили радиацией чёртову прорву народа в Японии, а теперь “оказывают услугу”, везут домой из русского плена! Черти! В-четвёртых, думаю, у них там всё было расписано заранее. Кто умирает, кто сопровождает домой тела умерших и очищенных смертью. И неизвестно ещё, что сделают над собой те, кто привезёт и похоронит товарищей в родной земле. А “Полковник” — ему вообще другой дороги не было. Он же не исполнил приказ имперского генерального штаба сложить оружие. Продолжал сражаться. Что там с ним сделали бы? Я не знаю.
Он выбрал этот проклятый “путь чести”. Теперь его похоронят с почестями в семейной усыпальнице. Надеюсь.
Тоня слушала. Одна часть её сознания понимала и принимала то, что говорил ей Григорий Сергеевич. Но другая часть её сознания — она кричала: “Так вот отчего он оставил ту фотографию! То, что было ему на свете всего дороже! Ему некуда было её везти. Он боялся, что чужие и грубые руки осквернят изображение его улетевшего счастья. Вот ужас-то: кроме нас, у него уже никого и не было. Вот он и оставил карточку нам, мне! Понял-почувствовал русскую жалость и уважение к чужому страданию. Это его последняя просьба. Сохранить память. И я её свято исполню”.
Так ли Тоня поняла предсмертный жест японского офицера или нет, но с тех пор она всю жизнь ставила свечки за упокой души “господина Исиды и его невинно убиенной семьи”. И неважно ей, Тоне, считает ли церковь самоубийство грехом. И что “господин Исида” к христианству, тем более к православию отношения не имел...
— Знаешь, Гриша, грех его лежит на правительстве Японии: зачем связались с Гитлером, зачем внушили японскому народу, что они выше всех, а остальные — просто грязь под ногами! Вот и заморочили людям голову. Сколько преступлений, сколько смертей... А потом тот народ-то и предали. И на американцах — грех! Ох, какой великий грех! Ядерную бомбу бросить, да не одну! Так что ставила за упокой и буду ставить!
Так упрямо заявляла Тонечка.
А Григорий Сергеевич ей не препятствовал, только просил, чтобы не особо о том рассказывала.
Да Тоня не из болтливых.
58. Советская Гавань. Шторм на Амуре
Чистое небо,
За тебя страшный бой ведь
У туч грозовых!
А тем временем подошла машина.
Мусенковы загрузились.
Поехали.
Нерадостным оказался их обратный путь. Тень японской трагедии чёрным вороном витала над их головами.
Даже девочки помалкивали, переживали.
Переживали по-своему. Лизочка вспоминала мимолётную, но искреннюю дружбу с её “подшефным больным” “Полковником”. Тонечка думала о навсегда оборванных нитях судеб, о страшном конце семьи “господина Исиды”. Григорий Сергеевич, уже в который раз, задумался об истоках этой неизбежной трагедии.
Только Вера осталась в стороне, не тем были заняты её мысли — сладко таяло сердечко при воспоминаниях о неких словах, сказанных ей одним из преданных “ремесленных”. Обещались писать друг другу, да что письма... Это не упоительный жар взгляда, не робкое прикосновение руки... Ох, печаль-печаль...
До Пивани поезд шёл двадцать пять часов, но в Пивани их встретил не паром-дворец, а шторм с дождём. Серое небо, косой дождь, серые воды Амура. Уж не поют они, не блещут лёгким серебром, не веселят душу, не обещают впереди романтику неизведанных далей. Сегодня перед путешественниками предстала во всей своей грозной мощи и суровости настоящая Сахалян-улла — Чёрная река.
Пассажирам поезда велели пройти в здание местного речного вокзала.
Прячась от косого дождя, быстро забежала Тоня с девочками в зал, огляделась: там уже набралось довольно-таки много народу.
Было холодно, сыро и очень душно. Почему-то большинство из собравшихся — были северяне.
— Гриш, ну не протолкнуться же!
— Шторм, Тося. Говорят, уже неделю штормит. Вот кончится шторм — тогда поедем, а пока что есть — то есть. Кстати, есть у нас поесть? Осталось?
— Вот, я тут в узелке... Да где здесь притулиться? Стулья все заняты.
— А мы на узлах посидим, Тось. Не баре, чай.
Григорий Сергеевич нашёл уголок пообедать. Ещё в Совгавани Тоня приготовила и собрала еды в дорогу, да на этот раз что-то недорассчитала. И теперь они располагали только небольшой горбушкой хлеба, последней выпечки лагерной пекарни, кулём сырого риса и большой банкой красной икры, которую им на прощание подарил друг, директор совгаваньского рыбозаводика.
— Берите, пригодится в дороге, мало ли чего!
Вот и пригодилось. С торжеством Григорий Сергеевич достал из заплечного мешка...
— Помидоры!
— Папины сливы, — прошептала упрямая Верочка.
Но с солёной икрой и с хлебом пошло хорошо! Замечательно пошли помидоры!
Рядом с ними коротала время семья с Севера. Видно было, что сидят они тут долго, не первый день, просто стойбище какое-то устроили. Их девочка глазела на Мусенковых. Скорее, на их царские яства.
Тоня предложила ей икры, но девочка поморщилась. Икрой она была на Севере по горло сыта. До отвращения.
— А что это такое красное вы едите? — спросила наконец девочка.
— Красное? Где? А, помидоры. Ты что, никогда помидоров не видела?
— Не видела.
— На, попробуй.
Девочка опасливо взяла, надкусила, скривилась.
— Фу! Кисло.
Однако доела. Морщилась, но ела с жадностью. Сказала “спасибо”.
Шторм бушевал ещё пару дней. И всё время люди жались на узлах и чемоданах в здании речного вокзала. Это было форменное мученье. Ни прилечь, ни походить, размять ноги — толпа измученного народа. Но Тонечка не роптала, терпела. Ей всё помнился 1941 год, их с дочками бегство от войны. Тогда ой куда как хуже было!
Вера и Лиза исстрадались от ночёвки на голом полу вокзала. Но жаловаться тоже не смели.
— Всем плохо. Терпите, — строго говорил отец.
Наконец ранним утром пришёл паром. Шторм стих, волны улеглись, обещая переправу, но небо не прояснилось, тяжёлой свинцовой крышей всё нависало над самой головой, так же сёк холодный косой дождь, убивая всю радость от долгожданного продолжения пути.
Быстро и молча загрузившись на борт парома, пассажиры поспешили разойтись по вагонам. Отдохнуть от ужасного ожидания. В этот раз было не до любования амурской волной. Хоть и опять пришли Тоне на ум строки: “Серебрятся волны, серебрятся волны...”.
Нет, не серебрятся они сегодня.
Скорее, чернеют.
Налит гневом и мрачен — вот таким встретил их Амур. Видно, неладно и у него на душе.
Льёт он злые слёзы.
Да ничего уже не поправить.
Не чаяли наши путешественники, как добраться до места назначения, такой выматывающей оказалась дорога обратно, безрадостной и тяжёлой.
Но люди же — они как дети: иногда самое малое изменение к лучшему, самое малое, но доброе впечатление прогоняют прочь тягостные мысли. И гляди! Опять человек воспрянул духом и ожил. Столь сильна вера в счастливый исход в роду человеческом.
Так случилось и на этот раз. Только переехали за Хабаровск, как тучи нехотя раздвинулись, и на небе наивно и простодушно засветило солнце, ободряя и возвращая веру в себя и надежду на удачу.
Григорий Сергеевич перестал хмуриться.
Как будто оставил позади, у Амура, тяжёлый груз своей души.
По-новому застрочили колёса, оживлённо тараторя Тоне новости родной Уссурийской дороги,
— Тут-так, вот-так, тут-так, вот-так!
— Вот как? Вот как? — вторила им Тоня, окунаясь в заботы и мысли о своей семье и родне, с нетерпением ожидающей её очередного приезда.
Приезд, длинный ряд объятий, смачных поцелуев, новые племянники и племянницы, бесконечный рассказ о диковинной жизни на самом краю дальневосточной земли, пытливые вопросы, волнения и споры — всё то, что родит любовь и забота в дружной и большой семье. Вот что впереди, это главное, а то прошлое — что же, оно уже успело скромно отодвинуться, потерять невыносимую яркость и муку красок... Что было — то прошло, и ничего уж не поделать.
— Бей беды, жди победы, — тихонько промолвила Тоня приговорку матери Катерины.
Защебетали и девочки, предвкушая встречи с родными, со старыми друзьями по владивостокской школе.
Уж ныне сёстрам есть что порассказать! И немало! И нормальным говором, не будут теперь смеяться над ними местные!
— Пап, а ты, вообще, как во Владивостоке оказался? — это с отчаянной храбростью выдала Лиза то, о чём часто задумывались они с Верой, да всё спросить не решались.
Выдернутый из размышлений, Григорий Сергеевич недоумённо уставился на дочь.
— Чего? Ты о чём? О чём спрашиваешь-то?
— Ну, ты выучился на командира-пограничника во Владивостоке, но рассказывал, что родился в Брянске. Это же далеко-далеко, ужас как далеко. А как ты из Брянска-то сюда приехал? На Дальний Восток. Как так у тебя получилось?
— А, вот ты о чём. Хорошо, расскажу.
Лиза и Вера уселись поудобнее, приготовились слушать. Даже рты приоткрыли в знак усиленного внимания. Вот теперь они узнают то, о чём в своих ночных беседах сочиняли истории. Чья версия вернее? Кто из них угадал правду?
Они нечасто могли так запросто поговорить с отцом.
Тот был всё время занят. На службе сутками.
А если выдавался ему свободный вечерок, так “гонял” их по русскому языку или литературе.
Было не до бесед по душам.
О маминых родных, о всей их семейной истории они с Верой давно всё знали. Мама да и бабушка обожали перебирать родню, делиться новостями и событиями давнего и недавнего прошлого.
А вот про папу — девочки почти ничего не знали о его молодых годах. У папиной мамы — бабушки из Брянска — ни разу не были они в гостях, да и не писали им из Брянска-то, не то что приморские бабушка и тётушки, регулярно присылавшие письма маме Тоне, а теперь уже и им, взрослым девочкам.
А Григорий Сергеевич поглядел в окно, кивнул чему-то, увиденному там, и стал рассказывать.
— Ваш дедушка Сергей, мой отец, работал у барина при доме. Как говорится, был на все руки мастер. А бабушка ваша Фёкла, мать моя, служила у того же барина кухаркой. Ничего, он не злой был, тот барин. Я и сам его помню. В 1912 году, как мне было лет пять, меня отец взял с собой, рубил дрова он, что ли. А я у дороги сидел, прямо на земле. И, помню, захотелось мне камушки выкладывать. Я и начал. Прямо у дороги много наковырял и на дорогу выложил, камушек к камушку. Дорога была земляная, грунтовая. И вдруг — едет барин на коне. А я увлёкся, выкладываю камушки. Вот он придержал коня и говорит мне: “Молодец, дорогу мостишь!” И кинул мне денежку. А сам ускакал. У отца нас трое было. Я и две сестры. Жили бедно. Отец девок-то не учил. А меня решил выучить. Платил за меня.
— За школу платил? — удивилась Лиза. — Как это? Учатся же бесплатно!
— Это теперь бесплатно, а тогда платили. Вот я и выучился, настолько, насколько у отца денег хватило. А потом стал с ним работать. Ни коня, ни сохи у нас не было. Брали у соседа. А тот давал на таких условиях: себе вспашешь, и ему тоже всё вспахать. Да... Вот я и пахал, пахал. А потом вышло, мы выменяли себе гармошку. Трёхрядку. Я стал пиликать, лады по слуху подбирать. Так сам собой и научился. И пошло!
— Что пошло? — заинтересовалась Вера.
— Я нарасхват пошёл! Чуть где свадьба или праздник какой, за мной едут. Кто на тройке, кто на телеге — зовут. А жили мы в пригороде Брянска. Далековато. Но по всем деревням окрест я отыграл. Да... Денег-то давали, кто — еды или добра какого... Что ни говори, а жить стало легче. Но насмотрелся я тогда... Дикость такая. Напьются, орут, дерутся. Я на всю жизнь отвращение к выпивке заимел.
Тоня покивала: что правда, то правда. Её Гриша никогда этим не страдал.
— А потом отец мой, дед ваш, в 1924 году поехал в район Луганска на заработки. Соблазнили его вербовщики большими деньгами. Хотел он на угольной шахте денег на коня подзаработать. Там тогда их столько было!
— Столько много коней было? — лукаво спросила Вера, давясь от хохота.
Теперь она отца прищучила! Не всё ему её гонять за неверные словечки да ошибки.
— Ладно-ладно, — миролюбиво признал Григорий Сергеевич, — поймали меня. Не коней, шахт всяких много было... У-у-у сколько! Вот он к одному крестьянину и подрядился.
— Что, что ты говоришь? — поразилась Тоня, внимательно слушавшая его и тоже узнававшая кое-что новое для себя. — Какие такие крестьянские шахты?
— А вот такие! Там, на Луганщине, чуть не у каждого кулака да и середняка своя шахта была. Только дед ваш, Сергей, к плохому хозяину попал. Тот крепи не смотрел, жмотился, думал, что и так сойдёт. А брёвна-то и подгнили. Вот деда вашего и завалило. Насмерть. Нам только потом-потом письмо пришло. Завалило вашего отца, не ждите, мол. Да...
Девочки смотрели на отца во все глаза. Вот оно как... вот что было раньше!
— Да... А у меня мать и две сестры. Кормить, содержать-то надо. Я же один мужик остался. Что ж, я тогда сразу в Сибирь и подрядился. Лес валить. Там платили. Хорошо платили. Вот я с 1924 года и валил этот лес. А народ там у нас подобрался — будь он неладен! Все гуляки! Как получка, так гулянка. А мне и пить с ними не хочется, и ругаться не с руки. Семью же кормить надо...Тогда я придумал: каждую получку я как бы в город уезжаю, как бы гулять. А сам — в лес! Там у меня дерево было одно такое... большое, с дуплом. Вот в это дупло я деньги с получки и прятал. Потом, как накопится, отправлял матери. А ещё там, в дупле держал я бутыль самогонки, — Григорий Сергеевич криво усмехнулся, — я на рубаху себе проливал немного, так, чтобы разило от меня сивухой, и домой шёл, ногами кренделя выписывал, как будто выпивши. Вот они и думали, что я всё подчистую в городе пропивал...
Девочки захохотали, радуясь удачной выдумке отца, а Тоня глянула на него с сочувствием и печалью: как ему, бедному, нелегко было. А ведь молодой был, почти мальчик...
— Ну а потом нэп закончился, и меня советское начальство заприметило. В партию позвали. Я пошёл. А они мне сразу предложили во Владивосток. Учиться на пограничника. Всё ясно теперь?
Девочки загалдели, вопросы сыпались как горох: как и какие, что и где?
Тоня прикрикнула слегка:
— Всё, уймитесь. Отец устал. Вот, газету почитайте. Свежая.
Девочки послушно углубились в газету.
Григорий Сергеевич вспоминал.
Конечно, рассказать дочерям всё, как оно было, он не мог. Да и зачем? Зачем им знать детали об ужасах повального пьянства в убогом и тёмном бараке лесорубов, где воняло кислятиной и самогоном...
К чему рисовать им картины зверств и грабежей при интервенции немцев и чехов в Брянске... А потом были лихие наскоки с Украины махновцев и других бандитов. Опять — смерть, опять — пытки, грабёж растерянных, измученных крестьян.
Как тогда жгли махновцы дома, рубили сплеча любого, кто пытался противостоять, защитить свою семью, своё добро...
Григорий передёрнулся.
Тося, помнится, с восторгом слушала однажды стихи... учитель малахольный их нараспев произносил, да ещё с таким подъёмом! Когда же это было? Да, когда ездили они с Тосей в Тирасполь, ещё до войны. Про Опанаса... дума, что ли? Что ж, стихи эти, они, может, и хорошие, да вот сразу встали тогда перед его, Гришиными, глазами кровавые “подвиги” этих махновских украинских бандитов...
Какая уж тут поэзия!
Ненависть одна к убийцам и грабителям.
Тося тогда его не поняла. Да и как она могла понять? С ней он этим не делился — страшными, иссушающими душу воспоминаниями. О том, как выволокли эти звери его юношескую любовь, соседскую девушку, почти подростка, во двор и... В общем, умерла она под ними. Как кричала она тогда...
Гриша глухо застонал сквозь зубы. Тоня настороженно взглянула на мужа: о чём он думает?
А воспоминания не оставляли Григория Сергеевича в покое, стучали в висок, туманили взор, стискивали грудь.
Как тогда в сарае, навалившись на него, крепко-накрепко вцепившись, держали его мать и сёстры, чтобы не кинулся он на помощь... на верную смерть...
Да, ничего светлого из юных лет выудить он не мог.
Чем же тут поделиться с дочерьми?
Хватит им того, что уже выпало на их долю, зачем отягощать ещё и рассказами о том диком и безумном, что осталось в отцовском прошлом.
Но всё же он мог с гордостью сказать одно: не уронил он себя, не загубил тупым и беспробудным пьянством, исполнил свой сыновий долг и выучился, никогда не бегал от ответственности.
Григорий заново переживал, как пришёл по повестке на призывной пункт, как волновался, когда отправили его по допризывной подготовке вместе с такими же, как он, крестьянскими парнями обучаться стрелять и маршировать.
А как в 1928 году исполнился ему двадцать один год, так пошёл Гриша на действительную военную службу да попал не в переменный состав территориальных частей, а сразу в состав РККА!
Вот он — поворотный момент!
В РККА его, Гришу, заметили, приняли в партию и отправили на дальнейшее обучение во Владивостокскую высшую пехотную школу. Хорошо, что обе его сестры тогда уже были замужем и содержали мать. А он был волен жить своей жизнью.
Потом та встреча с Тоней, перевернувшая всю его жизнь, осветившая его всего как солнышком — чудесная награда за тяжкую юность.
Пришла любовь.
Лицо Григория Сергеевича разгладилось, глаза потеряли стальной блеск, засияли. Тоня, напряжённо наблюдавшая за ним, облегчённо выдохнула — туча миновала, вот и опять ясно в их судьбе.
А муж уже вовсю улыбался ей, взял её руку, ласково пожал.
— Тось, а помнишь, как нас Прохор-то познакомил? Тогда во Владивостоке?
Тоня тоже в ответ заулыбалась, засветилась воспоминаниями, дорогими сердцу.
— Ты тогда такой был — я даже дышать не могла, вот какой!
— А я и заговорить с тобой боялся, думал — куда мне, брянскому лаптю...
Повспоминали, оттаяли душой. Тоня спросила давно её мучающее:
— Гриша, а что же теперь? Куда направят?
Вполголоса они заговорили о возможном будущем. Гадали, куда забросит их судьба на этот раз.
Решили — не важно, куда. Главное, чтобы не расставаться больше!
59. Владивосток. Нежданный удар
Всё безнадёжно?
Но даже на камне порой
Вырастает цветок...
На вокзале приехавших осыпал мокрый снег. Свинцовое небо, серые камни домов, чёрные силуэты прохожих. Короткий предзимний день кончался. Добрались до знакомого общежития МВД уже в темноте.
Их пока разместили там же, в том же здании. Только теперь — на первом этаже.
Прямо с утра Вера и Лиза побежали в школу. Их приняли с распростёртыми объятьями и девочки, их давние подружки, и учителя. Вернулись домой сёстры оживлённые, радостные.
Хорошо в их школе!
Теперь девочки старались всё время проводить там: делали уроки и ходили на многочисленные кружки. А домой не спешили — чего там интересного.
Антонина вещи старалась не распаковывать, только самое необходимое. А какой смысл? Скоро опять отбывать.
Но Григорию Сергеевичу нового назначения пока всё не давали.
Зато наградили несколькими днями отпуска.
Муж с женой решили “приодеться”.
Впервые за много лет им было на что — оказались у них некоторые сбережения. Вот оно как!
И на самом деле обстоятельства сложились так, что в Советской Гавани магазинов почитай что не было совсем. Куда тратить? На что? Вот и донашивали Тося с дочками старьё или что сама она сумела смастерить из выданных мужу тканей на обмундирование и на портянки. Одно только событие и было: из сукна защитного цвета местный совгаваньский мастер портновских дел пошил Вере тёплое пальто с поясом. Та форсила перед мальчишками из ремесленного. Родители тихонько посмеивались: уже невеститься дочки начинают.
Тоня же обносилась до крайности.
Однако в Совгавани они оба работали. И зарабатывали.
Впервые в их совместной жизни Тонечке удалось накопить денег на сберегательной книжке. Григорий Сергеевич частенько говорил с гордостью:
— Это наш неприкосновенный запас, чтобы приодеться в стольном граде Владивостоке.
И теперь, во Владивостоке, опять же впервые в их жизни, супруги вместе пошли по магазинам в поисках зимней одежды.
— Уж мы тебя разоденем, как королеву! — радовался Григорий Сергеевич. — Есть же на что! Шубу тебе купим! И платок пуховый, как у сестёр твоих. И ботиночки меховые, на каблуке!
— Ой, Гриша, — смеялась Тоня. — Нам на всё это не хватит! Давай посмотрим, что продают и почём. А там решим.
Но центральный универмаг их не обрадовал. Как и другие магазины. Пусто было там. Не отошла ещё страна от войны.
— Ничего нет! — жаловалась Тоня сёстрам.
Те смеялись:
— Да кто же по магазинам ходит? Все ищут на толкучке! На барахолке, есть и хорошие ношеные вещи, а есть, — тут сестра понизила голос, — есть и новые... Как повезёт.
Тоня об этом рассказала дома мужу.
Тот круто положил:
— Если можно купить на толкучке, значит, идём на толкучку! Но тебя оденем. Хватит тебе чернавкой перед сёстрами ходить!
Сказал так, в сердцах пошёл и снял деньги со вклада. Все снял, чтобы были под рукой.
Тоня уговаривала его:
— Не торопись, пока только понедельник. Успеем снять деньги перед воскресеньем.
Толкучка особенно “бурлила” в выходной, поэтому супруги решили пойти за покупками в конце недели.
Но Григорий Сергеевич был человек действия. Мало ли, вдруг очередь в сберкассе? Или ещё что... Пусть пока деньги спокойно дома полежат до воскресенья. Ничего с ними не случится. А самим так будет спокойнее.
Утро вторника, 16 декабря 1947 года, было Тоне приятно.
Девочки ходили в школу с удовольствием, встали сами, позавтракали тихо, чтобы не разбудить маму. Григорий ушёл в управление ни свет ни заря. Всё ждал назначения.
Тонечка позволила себе понежиться. Как приятны эти утренние пребывания
между сном и явью, когда тепло и уютно, голова совершенно свободна от дневных забот...
Подремав ещё, она встала и занялась делами.
Потихоньку почему-то на душе завелось беспокойство, “заскребли кошки”. Что там Грише скажут? Куда направят? Каково там будет?
Вот, кажется, уже привычна она ко всему, ко всем передрягам и неожиданностям их беспокойной и полной приключений жизни, а тут, поди же! Разволновалась.
Тут Тоня призадумалась: можно ли назвать их жизнь на краю смерти таким весёлым словом “приключения”?
Однако откуда же пришло ей в голову это странное выражение — “жизнь у смерти на краю”? Сама она, что ли, такое придумала? Или кто ей так сказал?
Внезапно её как прошило насквозь.
Вспомнила!
Сахалин, роддом! И та ужасная и злобная красавица, которая хотела заставить её, мать, отдать-обменять свою Лизочку на её дитя! Как же та ведьма больно её тогда ударила презрением и этими самыми словами!
Тоня вся вспыхнула!
Живо представилось ей женское лицо, искривлённые яростью и злобой красивые губы, дрожащие руки, брызжущие страстным желанием ударить неподатливую молоденькую дурочку — это её, Тонечку! Вырвать из её — Тониных — рук дитя! Да как та ведьма посмела предлагать деньги за обмен детьми, за доченьку! Это же надо такое придумать: Лизочка и какие-то там деньги! Да нет на свете таких денег!
“Всё, всё, уймись, — уговаривала себя дрожащая от ярости Антонина. — Это было и прошло. Десять лет тому назад, даже уже одиннадцать! Сколько воды с тех пор утекло!”
Пропасть войны пролегла между настоящим и тем, умершим прошедшим. Столько смертей, столько расколотых надвое сердец!
...Однако где же Гриша? Он же в отпуске, отчего так задержался? Неприятная холодная дрожь поползла по позвоночнику. Желудок противно скрутило ледяной рукой страха.
“Я знаю, что-то произошло... Только не с Гришей! Пожалуйста, не с Гришей!”
Она ещё не успела запаниковать по-настоящему, как услышала знакомые шаги в коридоре!
Это он! Он пришёл!
Страх прекратился, и накатило огромное, всепоглощающее облегчение!
Вот он, Гриша! Стоит на пороге.
Только тут Тонечка заметила, что Гриша бел как полотно. Что прислонился к косяку двери как без сил.
— Гриша, да что ты? Что с тобой? Тебе плохо? Заболел?
Гриша вдруг оторвался от косяка и рухнул в комнату, обняв её колени, прижавшись к ней головой.
— Тося, Тося... Казни меня! Я виноват, кругом перед тобой виноват!
— Да что ты, Гриша? Не пугай меня.
— Тося, нет у нас больше денег...
Тоня не поняла. Только полчаса назад она пересчитывала деньги, снятые Гришей и со вчерашнего дня надёжно хранимые ею под матрацем.
— Гриша, все деньги на месте! Что ты говоришь?
Упрямо отворачивая лицо, Гриша прерывистым голосом произнёс:
— Тося, реформа! Денежная реформа! С сегодняшнего дня объявлена! Деньги новые — обменивают их. Если бы деньги мы не сняли вчера, нам бы обменяли один рубль за два старых... и ещё три тысячи рубль за рубль!
— Гриш, но мы же сняли, — непослушными губами пролепетала Тоня.
— Я! Тося, я! Я снял! Дурак! Идиот! Не послушал тебя! Тося, Тось, послушай... деньги, что на руках, нам теперь обменяют... Обменяют...
Голос Григория увял, превратился в невнятное бормотание.
— Ну же, говори!
— Один к десяти!
— Наши... деньги... погорели, — прошептала Тоня. — Наши деньги... нет, не деньги! Наш тяжёлый труд! Наши старания, то, как мы отказывали себе во всём... во всём... Вот что прахом пошло...
Голосок Тони всё замирал, пока не придавила их обоих тяжёлая, как бетонная плита, тишина. Каплей расплавленного свинца жгло каждое её слово согбенную виною фигуру у её ног, заставляя сжиматься и трепетать...
Тоня глянула на могучие плечи мужа, теперь странно вздрагивающие, на его упрямый затылок, почувствовала жар его рук, мокрое и горячее его дыхание...
Как во сне, медленно протянула она руку, провела по его волосам, ласково погладила, как маленького. Её нежное прикосновение пало живительным дождём на пустыню отчаяния Гришиной души...
А потом Тоня рухнула на колени рядом с ним, обняла и зашептала ему, как мать шепчет, утешая дитя в его нечеловечески огромном детском горе:
— Гриша, мы же живы! Мы все живы и вместе! Что нам ещё? Ты — живой, Гриша! Ты прошёл войну и живой! А деньги... да что — деньги! Это же просто так. Бумажки. Никогда у нас их не было, вот и теперь нет. Да и ладно, и так проживём.
Да не убивайся ты, Гриша! Любимый мой! Дорогой! Не плачь! Всё хорошо...
60. Ты сам творишь свою судьбу
Изогнута ветвь,
Человек несгибаем.
Слива мейхуа*.
Вселенная закружилась-завертелась в глазах Тони. И послышалось ей, что где-то далеко-далеко, в ином мире, за гранью бытия, нежной свирелью женский голос пропел:
— Ты проиграл! Ты сделал свой ход и проиграл! И теперь, злой Рок, ты должен их оставить в покое!
А другой голос, жуткий, как “похоронка”, тяжёлый, как разбитое сердце, злой, как свист осколков над головой, прорычал:
— Этого не может быть! Никому не вынести столько и при этом не сломаться, не озлиться! Сонмы людей и половины не прошли! А эти! Почему? Ответь мне!
И ласковый голос ответил:
— Твоя добыча — люди, замкнувшиеся в своём маленьком мирке эгоизма и скупой любви только к себе одному. И ещё твоя добыча — люди, потерявшие ощущение единства огромного мира, потерявшие сострадание, связующее всех и вся во вселенной. И самая лёгкая твоя добыча — люди, высокомерно признавшие собственное превосходство над другими в своём воспалённом сознании. Ибо они уже и не люди вовсе. Ибо все они уже ополовинили, убили свою душу. И впустили зло в сердце. А вместе со злом они впустили и слабость, страх и сомнения. А там недалеко и до чёрного отчаяния, ведущего к полной погибели человека.
А я — Любовь — вхожу в этот мир через тех, кто видит и ценит всё единое величие бытия, кто с готовностью, забыв себя, идёт на помощь всем вокруг, кто умеет прощать и сочувствовать, кто сияет во тьме жестокости светом добра.
Только те люди сильны.
И с каждым новым шагом становятся всё сильнее.
Ибо растёт и крепнет их душа.
Таковы же эти двое.
Теперь они под моей рукой.
И будут они жить долго и в любви.
И вырастят дочерей и внуков.
И однажды почувствует Григорий тёплую ручку правнука, крепко держащегося за его палец. Правнука, топающего на маленьких непослушных ножках рядом. Правнука, глядящего на прадеда своими круглыми глазёнками снизу вверх с бесконечным обожанием и верой в него.
А Тонечка, тая от нежности, одним ранним утром прижмёт к груди крохотный свёрток, откинет белоснежный кружевной уголок, и глянут оттуда на неё карие очи правнучки, точной копии Тонечки, теперь прабабушки...
Я обещаю, так будет...
* * *
Был ли тот разговор? Может, в накале эмоций это просто привиделось Тонечке?
Только отчего-то вдруг легче стало им обоим дышать, будто каким чудом беды отступили. Ушли.
Стёрлось-побледнело плохое.
А будущее чистым звуком позвало вперёд. Обещая... утешая.
Встали они с колен, помогая друг другу, и... пошли пить чай!
В воскресенье всей семьёй отправились они на толкучку и на все новые купюры купили Тоне весенний белый плащ, а девочкам — по петушку на палочке.
Вот тем денежный обмен и кончился.
61. “Чем сердце успокоится?”
Скоро получил Григорий Сергеевич новое направление.
Омск.
Стал он там начальником отдела по борьбе с бандитизмом. Там было ему поручено очистить леса Омской области от местных бандитов, расплодившихся и обнаглевших за время войны. Пригодился боевой опыт.
Вот и опять собирает Антонина Степановна скудные пожитки. И опять едут они в долгую дорогу по бесконечным путям и мелькающим шпалам. Едут под дождём и снегом через тайгу и сопки, через болота и перелески, засыпая под мерный перестук колёс, просыпаясь, чтобы увидеть за окном всё ту же картину: тайга, сопки, болота... редкие огоньки.
Наконец, доехали до Омска, где семья задержалась в этот раз надолго. На целые девять лет.
Девочки окончили школу. Обе выросли умницами и красавицами. Обе поступили в институт.
Но это уже другая история. История жизни дочерей Тонечки, внучек Катерины.
Прошло много-много лет. И ещё много городов повидали Тоня и Гриша: Армавир, Свердловск, Оршу, возвращались и во Владивосток, потом был Курск...
А однажды собрались дети, внуки и правнуки на золотую свадьбу Тонечки и Гриши и подарили им то, чего у тех никогда не было — золотые обручальные кольца.
И легли эти кольца рядом с разложенными на белой скатерти боевыми орденами и медалями.
Сияли рядом с орденом Ленина.
Вот они, награды за безупречную жизнь, за жаркую любовь, за преданность Родине, смотри!
И как сияют радостью и теплом глаза всех, глядящих на золотых молодожёнов...
Да будь же ты вовек благословенна, чистая и святая, оберегающая людей Любовь!
И благословенны будут люди, бестрепетно несущие миру высокие Её заветы.
* * *
Мощной симфонией звучит поток жизни.
Поют нам скрипки про юную любовь.
Грудным виолончельным голосом повествует бессмертный вселенский композитор о самоотверженной материнской любви.
Тянущим звуком, изломанной мелодией оповещают нас горние валторны о подступающих невзгодах.
Могучей силой злого рока рвут-взрывают душу ударные.
Нежно и тоненько щебечут детскими голосами флейты.
Но прислушайся: в этой бесконечной симфонии человеческого бытия ты услышишь одну золотую тему — тему любви казачки Тонечки и крепкого пограничника Григория.
